Три Направления
ВО ФРАНЦУЗСКОМ КИНО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ
«Авангард — это интеллектуальное любопытство в области, где еще можно открыть много удивительного». Так определял сущность авангарда Рене Клер, добавляя, что он не должен ограничивать свою деятельность исключительно поисками в области психологии или созданием новых, неожиданных технических эффектов.
Французский киноавангард, расцвет которого приходится на вторую половину двадцатых годов, сформировался в атмосфере поисков и экспериментов. Во многих отношениях он продолжал традиции французских киноимпрессионистов, которые под руководством Деллюка первыми подняли бунт против коммерческого подхода к кино как к зрелищу, бездумно копирующему театральные и литературные образцы. Импрессионисты выступали за полную самостоятельность киноискусства и обособленность его выразительных средств. Они считали, что кинематографист должен по своему, не так как художники в других областях искусства разговаривать со зрителями, и не случайно поэтому киноимпрессионистов
называли первым авангардом.
Второй, или собственно, авангард пошел в своих художественных постулатах гораздо дальше, чем импрессионисты. Требование обязательности своеобразия выразительных средств привело к крайним выводам. Выразительные средства были возведены в абсолют, начали подменять выражаемое с их помощью содержание. Отсюда — внезапный взрыв формализма во французском киноискусстве.
Однако явление киноавангарда слишком сложно, чтобы разделаться с ним при помощи одного простого определения — формализм. Говоря о формалистических перегибах и бессмысленном экспериментаторстве, необходимо выяснить причины такого направления развития и определить условия, в которых художники проводили свои эксперименты.
==263
Первый и очень важный момент — это безусловно прогрессивный старт авангардистов. Художники, ставшие под знамя киноавангарда, были бунтарями. Они сопротивлялись диктатуре дельцов, всегда предпочитавших апробированные средства выражения банального содержания.
Авангардисты считали, что кино не может и не должно быть коммерческим зрелищем, из года в год повторяющим одни и те же банальные мелодраматические или комедийные сюжеты. Авангардисты мечтали, чтобы кино стало самостоятельным искусством, а не паразитом, питающимся скверной литературой или еще более убогим театром.
В основе своей это был здоровый и благородный бунт, а то, что он завел бунтарей в тупик, вполне закономерно, если принять во внимание обстоятельства его возникновения. С одной стороны, действовал фактор новизны и обнаружения неограниченных возможностей самих выразительных средств. Ведь еще так недавно импрессионисты в результате собственных экспериментов и под влиянием американских, шведских и немецких фильмов доказали, каким замечательным средством выражения мыслей и чувств может быть кино. Импрессионисты открыли неиссякаемый лирический и драматический потенциал, заключенный в фотографии, освещении, монтаже. Это было открытием языка кино, которым можно сказать во сто крат больше, чем при помощи беззвучно разговаривающих и жестикулирующих актеров и бесконечных объясняющих надписей. В открытии кпноязыка было что-то волшебное и притягательное для людей, одаренных художественным талантом. Этот восторг перед неизвестными дотоле возможностями киноязыка мог привести и действительно привел к заинтересованности исключительно проблемами формы.
Но это еще не все. Ведь необходимо помнить о том, что кино развивается не в изоляции, оно всегда связано с другими областями искусства. А что же происходило в те годы в литературе, живописи или музыке? Оказывается, всюду появились свои «авангарды», призывавшие к разрыву со всеми теми непреходящими ценностями, которые создавались веками. Авангард выступал против сюжета в произведениях литературы, против мелодии в музыке, против принципа отражения окружающего нас мира в живописи. Авангардисты выдвигали по-разному сформулированные и обоснованные, но в конечном счете сходные по существу лозунги о «чистоте отдельных художественных дисциплин», сводящиеся к тому, что специфика формирования художественного видения определяет не только своеобразие, но и смысл существования данного искусства.
Так, например, «чистота» живописи или музыки достигалась путем отказа от всякой описательности как элемента, якобы взятого у литературы. Эти идейнохудожественные тенденции, имевшие множество выдающихся приверженцев в разных авангардистских школах — кубистов, дадаистов или сторонников атональной музыки,— нашли свое отражение и в кино. И здесь искали чистую сущность, «эссенцию» кинематографичное™, искореняя все,
==264
что якобы чуждо кино, что привнесено из других искусств. Влияние живописного и литературного авангарда толкало кинематографистов к формальным экспериментам, к поискам в области формы — и только формы — ответа на вопрос, что такое киноискусство.
Киноавангардисты никогда не составляли цельной группы или школы, наоборот, это был необычайно текучий человеческий коллектив, с постоянно меняющимся составом. Одни сближались с авангардом, другие по тем или иным причинам отходили от него. Случалось, что режиссер сугубо коммерческого типа в перерыве между двумя конформистскими картинами неожиданно создавал авангардистское произведение. Многие постановщики быстро забывали о своих авангардистских эскападах и при первом удобном случае переходили на безопасные позиции «нормального искусства». Киноавангард в отличие от авангардов в других областях искусств не создал школы с определенной программой. За исключением сюрреалистов (да и то не всех), никто из кинорежиссеров не декларировал своей принадлежности к определенной группе или направлению.
Вот почему трудно создать какую-то четкую систематику деятельности французских киноавангардистов. Можно говорить лишь о некоторых тенденциях или основных принципах, характеризующих деятельность тех или иных художников в определенный период. Ибо спустя некоторое время те же самые люди под влиянием обстоятельств оказывались в другом лагере или вообще вне авангарда. Текучесть киноавангарда, непрестанные странствия художников в поисках идеала или — более прозаично — заработка отражают общее положение художника в буржуазном обществе XX века.
Глубокий анализ этого положения сделал Кристофер Кодуэлл в эссе под названием «Д. Г. Лоуренс — эсюд о буржуазном художнике» *. Кодуэлл писал, что буржуазный художник находится под постоянным давлением двух противоположных сил. С одной стороны, требования рынка приводят его к коммерции, к вульгаризации искусства. С другой счороны, если он восстает против коммерции, появлется новая, центростремительная сила, толкающая его в объятия герметизма. Тогда художник отворачивается от рынка, от потребителей и рассматривает произведение искусства как конечную цель, цель саму в себе. Творческий процесс принимает в этом случае крайне индивидуалистические формы. Общественные ценности, заключенные в привычных для зрителей художественных формах, теряют свой смысл, ибо произведение искусства доступно лишь одному его создателю. Это явление двойного нажима — буржуазного общества и индивидуального бунта — проявляется не всегда одинаково и с одинаковой силой. В двадцатые годы во Франции деятели киноискусства подвергались особенно сильному давлению и с той, и с другой стороны; этим и объясняется растерянность мно-
С h г istopher Caudwell, Studies in a dying culture, London, 1948, p. 46—47.
==265
гих творческих работников; не умея найти правильный путь, они бросались в своих поисках из одной крайности в другую.
Помня о всех этих оговорках, можно все же попытаться выделить во французском киноавангарде три основные направления поисков. Первое, продолжавшее опыты Деллюка,— это импрессионистическое направление в лице Жермены Дюлак, Альберто Кавальканти, Жана Ренуара и Дмитрия Кирсанова. Второе — экстремистское направление, представителями которого были сторонники «чистого кино»: Анри Шометт, Фернан Леже, Франсис Ппккабиа и в какой-то сгепени (в «Антракте») Репе Клер. Наконец, третье направление, возникшее позднее первых двух,— это сюрреализм во главе с Луисом Бюнюелем и Маном Реем *.
Режиссеры-импрессионисты мало чем отличались от своих предшественников начала двадцатых годов. В принципе они не возражали против сюжета, требуя, однако, чтобы каждый фильм имел четко выраженную тему.
Фильм мог быть повествованием, построенным по законам драматургии, или же передавать какое-то настроение пли цепь изменчивых настроений. Фильм должен воздействовать на зрителя как зрительная симфония, в которой, несмотря на музыкальную терминологию, легко обнаружить стилистические фигуры, заимствованные у литературы,— аналогии, метафоры, символы.
Наиболее активную позицию среди киноимпрессионистов второй половины двадцатых годов занимала Жермена Дюлак, которая являлась сьязуюшим звеном между старой и новой школами и одновременно идейным вождем импрессионистического направления второго авангарда. Теория Жермены Дюлак о том, что фильмы должны вызывать у зрителя такое же ощущение, как у человека, слушающего музыку, нашла свое практическое выражение в таких картинах, как «Приглашение к путешествию» (1927), «Пластинка 927» (1928) и «Арабеска» (1928), дающих зрительные эквиваленты музыкальных произведений Бетховена, Шопена и Дебюсси. В этих фильмах Дюлак старалась воплотить в зримых образах переживания, которые возникают в процессе восприятия музыкального произведения. Отдельные кадры соединялись на основе живописных и литерачурпых ассоциаций. Так возникла новая изобразительная поэтика кино, являющаяся результатом, с одной стороны, влияния музыки, сообщающей фильму мелодику и ритм, а с другой — литературной стилистики, обеспечивающей взаимосвязь отдельных кадров. Фильмы Жермены Дюлак, даже если они демонстрировались под аккомпанемент грамофонных пластинок, отличались достаточной степенью свободы в выборе зрительных эквивалентов музыки, но настроение их было понятно благодаря использованию однозначных и общепринятых символов (например
Такую систематизацию предлагает Альберто Кавальканти в своей автобиографической книге «Filme e Realidade», Sao Paulo, 1953.
==266
черный цвет и мрачные тона освещения выражали минорное настроение, а улыбающийся ребенок соответствовал звуковому allegro и т. д.).
Альберто Кавальканти (род. 1897) не придерживался столь крайних воззрений, как Жермена Дюлак: все его авангардистские фильмы основывались на ясных и понятных сценариях.
Этот молодой художникдекоратор, сотрудничавший с Марселем Л'Эрбье, дебютировал сентиментальным репортажем о жизни будничного Парижа «Только время» (1926). Фильм, вышедший за несколько месяцев до «Симфонии большого города» Руттмана, был, вероятно, первой попыткой кинематографического обозрения большого города, его архитектурных и социальных контрастов. В «Маленькой Лили» (1927) Кавальканти лишь проиллюстрировал средствами кино парижскую уличную песенку — балладу о несчастной любви бедной швеи. В стилизованных, снятых через прозрачную ткань кадрах режиссер старался передать специфическую атмосферу уличной поэзии парижских предместий. Наконец, в своем наиболее зрелом фильме «На рейде» (1928) режиссер обратился к традициям «Лихорадки» Деллюка и «Верного сердца» Эпштейна, воссоздав на экране романтическую атмосферу марсельского портового кабачка, тоску по далеким странствиям, конфликт между обыденностью жизни и мечтой о необыкновенных приключениях. Здесь, как и в предыдущих фильмах, удачно найдено верное соотношение фотографии, монтажа и игры актеров, что помогло передать атмосферу показанной на экране среды. Свойственные Кавальканти романтические акценты в описании парижской улицы или марсельского порта мы обнаружим в тридцатые годы, в период расцвета французского киноискусства в фильмах Карне и Дювивье.
Несколько раньше, чем Кавальканти, дебютировал как кинорежиссер Жан Ренуар (род. 1894), сын великого художника-импрессиониста Огюста Ренуара. В фильмах «Дочь воды» (1924) и «Девочка со спичками» (1928) Ренуар пытался найти экранное выражение сказки. «Дочь воды» интересна живописной кинематографической трактовкой пейзажа. Во второй картине большую роль играло движение и монтаж, особенно в той сцене, когда герои убегают от смерти, принявшей облик черного гусара.
В ранних фильмах Ренуара чрезвычайно интересна актерская игра Катрин Хесслинг: образы, созданные ею, словно сошли с полотен художнпков-нмпрессионистов. В экранизации натуралистического романа Э. Золя «Нана» (1926) стиль игры Катрин Хесслинг прозвучал диссонансом, зато в последовательно импрессионистских фильмах как Ренуара, так и Кавальканти («Маленькая Лили» и «На рейде») он был важным художественным компонентом.
Последним, достойным упоминания представителем импрессионистского направления был Дмитрий Кирсанов, автор нескольких авангардистских фильмов. Наиболее значительной была картина о двух сестрах,
==267
живущих в рабочем районе Парижа — Менильмонтане. Фильм, сня1ый в стиле народной баллады, так и назывался «Менильмонтан» (1924). Кирсапов перенес на экран настроение парижской улицы, маленьких домиков, жалких пансионатов и атмосферу нищенской жизни. Он, как и Жермона Дюлак, сравнивал фильм с музыкальным произведением, считая, что отдельные кадры — это объединенные в гармонические системы аккорды. В сравнениях такого рода Кирсанов шел довольно далеко, доказывая, например, что если бемоль изменяет музыкальную фразу, то и соответствующее освещение может придать сцене совсем иное настроение.
Режиссеры, представлявшие импрессионистское направление, не исключая и Жермены Дюлак, не отказывались от работы в коммерческом кинематографе и в определенный момент все оказались вне авангарда.
Иначе обстояло дело со сторонниками «чистого кино», для которых водораздел между киноискусством и коммерческой продукцией был непреодолим: он разделял два враждебных друг другу мира. Здесь речь шла не о способе самовыражения при помощи кинематографических средств, а о гораздо более важном: о борьбе за полную автономию киноискусства.
Один из выдающихся представи гелей этого направления авангарда Анри Шометт, брат Рене Клера, автор фильмов «Пять минут чистого кино» (1925) и «Игра световых отражений и скоростей» (1925), следующим образом формулировал теоретические принципы «чистого кино»: старое кино ограничивалось исключительно показом известных вещей, играя роль зрительного фонографа — аппарата, регистрирующего и воспроизводящего запись. Этого добивались двояким способом: или давая простую репродукцию явлений (документальный фильм), или косвенную репродукцию, используя уже существующие (театр, пантомима, мюзик-холл) зрелищные модели (драматический фильм). А кино, считал Шометт, может не только воспроизводить, но и творить.
Если оставить в стороне логику фактов и реальность предметов, то на экране появятся необычайные видения, созданные благодаря содружеству объектива кинокамеры с движущейся пленкой. Тогда появится «чистый фильм», отделенный от всех других элементов, как драматических, так и документальных, возникает визуальная симфония, а кино станет самостоятельным царством света, ритма и форм, так же как музыка является царством звуков.
Анри Шометт требовал отделить кинообраз от его содержания, придать ему самостоятельную ценность. Образ рассматривался не как отражение какого-то фрагмента реального мира, а как нечто автономное, самоцельное.
Идеи Шометта ярче всего проявились на практике в фильме художника-кубиста Фернана Леже «Механический балет» (1924). На 300 метрах пленки были зафиксированы предметы повседневного употребления —
==268
щетки, горшки и т. д. Предметы эти показаны необычно, сняты с таких точек, что они утратили свои нормальные, знакомые зрителям формы. Камера приближалась и отдалялась от предметов, благодаря чему достигался эффект движения. Кроме того, Леже вмонтировал в фильм многократно повторяющийся кадр прачки, поднимающейся по лестнице с корзиной белья, и другой женщины, качающейся на качелях. Повторяющиеся кадры обеих женщин выполняли функцию метронома, дающего ритм танцу неодушевленных предметов.
В чем смысл этого авангардистского фильма? Концепцию произведения лучше всего объяснил сам автор, говоря, что «настоящий фильм — это изображение предметов, абсолютно новых для наших глаз. Предметы эти производят большое впечатление, если мы сумеем показать их соответствующим образом». Необходимо найти такое положение камеры, чтобы «часть какого-то предмета, не имеющего на первый взгляд никаких изобразительных достоинств, получила внезапно поразительную пластическую ценность и к тому же совершенно новую».
В каком случае предметы могут получить это новое качество? «Только тогда,— отвечал Фернан Леже,— когда они будут изолированы от окружающей их среды и всяких логических связей».
Предметы эти следует перенести на экран в движении и придать им «заранее продуманную» ритмическую организацию. Только тогда художник выполнит свою задачу _«наполнится тем, что его окружает и будет как губка впитывать жизненную силу мира».
Фильм Леже принципиально отличается от экспериментов немецких абстракционистов — Рихтера, Эггелинга и Руттмана. Абстракционисты хотели лишить кинообраз сходства с конкретными предметами, а роль кино свести к игре света, форм и линий. В отличие от них Леже ставил перед собой задачу насытить зрителя «реальностью» окружающего его мира. Однако практические результаты этих столь различных по замыслу попыток создания «чистого фильма» оказались сходны. И в том, и в другом случае на экране появлялись случайные, непонятные для зрителя предметы, снятые всегда сбоку, снизу или сверху и никогда так, как видит их обычный наблюдатель. Кое-где между позитивными кадрами вмонтировано несколько негативов, и «чистый фильм» был готов. Зритель минуту-другую смотрел на такую «зрительную симфонию» с интересом, который вызывает любое чудачество; через пять минут это ему надоедало, через десять нервы не выдерживали, а через пятнадцать он начинал громко протестовать.
Почти одновременно с «Механическим балетом» появился другой «чистый фильм»—«Антракт» (1924) Рене Клера, снятый по сценарию художника-дадаиста Франсиса Пиккабиа. К «Антракту» мы еще вернемся, рассматривая творческий путь Репе Клера, а здесь только напомним, что и этот фильм был результатом стремления лишить кинообраз его смыс-
==269
ловой ценности. «В «Антракте»,— писал в 1924 году Рене Клер,— образ освобожден от обязанности что-то означагь, он рождается реально, имеет конкретное существование».
Понять «Механический балет» и «Антракт» можно лишь в контексте современных им течений и художественных школ в других областях искусства. Оба фильма выражали идеи дадаизма, созданного в годы войны в Швейцарии Тристаном Тзара, французским поэтом румынского происхождения. В начале двадцатых годов дадаизм стал модным направлением среди художественной молодежи Парижа; в числе сторонников дадаизма были, в частности, Андре Бретон, впоследствии создатель сюрреализма, поэт Луи Арагон и художник Франсис Пиккабиа.
Дадаизм был выражением нигилистического протеста против действительности, которая привела к первой мировой войне и послевоенным разочарованиям. Дадаисты выступали против всех и против всего, провозгласив своей единственной философией абсурд и отрицание. Они не признавали никаких авторитетов, высмеивали традиции, привычки и логику. Дадаистские фильмы утверждали господство абсолютной бессмыслицы, проявляющееся в специфической форме «чистого кино». Но в тот период, когда появились «Механический балет» и «Антракт», дадаизм уже уходил в прошлое, а на его месте появилась новая школа сюрреализма, к которой примкнули почти все дадаисты во главе с Андре Бретоном.
Среди кинематографистов появилось немало сторонников сюрреализма. Бывший дадаист, американский фотограф Ман Рей в сотрудничестве с поэтом-сюрреалистом Робером Десносом сам создал целую серию сюрреалистических фильмов. Его «Возвращение к разуму» (1923), «Эмак Бакия» (1926), «Морская звезда» (1928) и «Тайны замка Де» (1928) могут служить образцом переложения на язык кино принципов сюрреализма. В фильме «Морская звезда» Ман Рей, использовав поэму Десноса, материализовал на экране подсознательный мир спящего человека. Фильм не иллюстрировал стихи, а дополнял поэтический мир Десноса собственным поэтическим видением Мана Рея.
Кино убедительнее других искусств стирало границу между мечтой и реальностью и особождало от необходимости логического оправдания действия. То, что в поэзии использовал Бенжамен Пере, а в живописи Макс Эрнст — парадоксальное и алогичное соединение слов или пластических форм,— в кинематографе производило гораздо более сильное впечатление благодаря монтажу. Темнота просмотрового зала, ирреальная обстановка восприятия фильма зрителями способствовали сюрреалистским экспериментам в киноискусстве. Восприятие живописного или литературного произведения происходит в условиях гораздо менее благоприятных для стирания границы между реальным миром и миром сонных грез.
В конце двадцатых годов сюрреализм во французском кино проявлялся преимущественно в двух формах — спокойной и резкой.
Представителем
К оглавлению
==270
первой был создатель красивых фотографических видений Ман Рей, второй — испанский режиссер Луис Бюнюель, работавший вместе с испанским художником Сальвадором Дали. Фильм Бюнюеля и Дали «Андалузский пес» появился в 1928 году, в период огромной популярности сюрреализма.
«Андалузский пес» вызвал бурю споров, протестов и восторга. Из запутанной, разорванной истории двух влюбленных мало что можно было понять, но в памяти зрителей остались пугающие кадры глаза, разрезаемого бритвой, кровоточащей раны на ладони, по которой ползали муравьи, двух католических священников, тянущих за веревки рояль, на котором лежал мертвый мул. Каков смысл этих садистских, эротических символов? Нашлись «знатоки», утверждавшие, что здесь показаны любовь героя и его половое влечение, связанные религиозными предрассудками (священники) и буржуазным воспитанием (рояль и мул). Для этих толкователей формалистского киноязыка все сводилось к фрейдистским символам и комплексам.
В действительности же дело было и проще и одновременно сложнее. Бюнюель и Дали показали на экране несвязанную, свободную от законов логики цепочку случайных ассоциаций. Не стоит пытаться объяснять их, раскладывать в определенном порядке, ибо это противоречит самому принципу творчества этих художников. Зато можно и даже необходимо увидеть в фильме атмосферу страстного протеста, бунта против действительности. В мучительном сне наяву героев «Андалузского пса» сконцентрирован мощный заряд сопротивления, желание рассчитаться с людьми и с миром. В «Андалузском псе» отсутствовали формальные приемы, к которым приучил снобистскую публику киноавангард. Там не было ни оптических деформаций, ни неожиданных точек зрения камеры, не было негативных вставок и эксцентричного монтажа. Люди в «Андалузском псе» выглядели нормально, и мир, в котором они находились, был тоже внешне нормален.
Однако обыденность относилась лишь к внешней оболочке явлений. В мире Бюнюеля общепринятые мерки времени и пространства несущественны, никого не интересует так называемый здравый смысл.
Если людьми и управляют какие- то законы, так это законы, а вернее, силы, страсти. Страсти беспощадной, прокладывающей себе путь вопреки сопротивлению индивидуума и общества. Расчеты Бюнюеля с миром — это расчеты с действительностью, которая сковывает человеческие страсти, мешает человеку жить так, как он того хочет. Человек никогда не свободен, он всегда борется за свою свободу. Таково бунтарское и анархическое кредо Бюнюеля.
Ничего удивительного, что постановщика «Андалузского пса» нисколько не смущали протесты, зато его возмущали восторги снобов, которые, ничего не понимая, восхваляли фильм только потому, что сюрреализм был моден. Вот об этих-то лицемерных энтузиастах, не понимавших что
==271
«Андалузский пес»— это протест, вызов, брошенный миру, Бюнюель с горечью и иронией писал: «Глупа толпа, считающая прекрасным или поэтичным то, что, в сущности, является лишь отчаянным и страстным призывом к убийству».
«Андалузский пес» очень далек от морских волн и водорослей, которыми играл Man Рей. Среди сюрреалистов было немало молодых художников мелкобуржуазного происхождения, в сердцах которых пылал огонь бунта. Спустя много лет некоторые из них, как Луи Арагон, Тристан Тзара, Робер Деснос или Поль Элюар, нашли верную дорогу к революции в рядах Французской коммунистической партии. Но путь этот был долог, чреват препятствиями и поворотами. Приблизился к ней Луис Бюнюель в документальном кинорепортаже из Испании «Земля без хлеба» (1932), отдалился от нее совершенно Сальвадор Дали, в будущем придворный художник папы римского и генерала Франко.
Все авангардистские киношколы, начиная от импрессионистов и кончая сюрреалистами, имели одну общую черту: фильмы, созданные ими, были предназначены не для широкой публики, а для узкого круга знатоков нового искусства и снобов, для которых открывали специальные киноклубы и кинотеатры (как, например, «Старая голубятня» Жана Тедеско или «Студия Урсулинок» актеров Талье и Мирга). Неверно утверждать, что специальные кинотеатры и движение киноклубов, объединенных в федерацию, во главе которой стояла Жермена Дюлак, были только уступкой снобизму.
Во многих случаях эти кинотеатры и клубы сумели заинтересовать зрителей прогрессивными произведениями киноискусства и способствовали созданию экспериментальных фильмов, которые, впрочем, снимались с мыслью о том, что они могут быть поняты только немногочисленной группой посвященных. Отказ от драматургии, от понятного содержания, желание вызвать скандал — все это изолировало авангард, лишало его широкого художественного воздействия. Авангардисты в некотором смысле обрекали себя на добровольную изоляцию, а это неизбежно должно было привести к внутренним конфликтам, ибо по природе своей кино перерастает рамки узких экспериментов.
Многие авангардисты переходили в коммерческое кино, сохраняя, однако, свои художественные устремления. В особенности это относится к импрессионистам как из первого авангарда Деллюка, так и из представителей младшего поколения. Из старых мастеров Марсель Л'Эрбье никогда не был в истинном смысле этого слова авангардистом; он всегда работал в коммерческой системе кинопроизводства, стараясь, однако, в таких фильмах, как «Эльдорадо» и «Дон Жуан и Фауст», создавать произведения подлинного искусства. Позднее Л'Эрбье все в большей степени поддавался коммерческому нажиму и ему больше не удалось создать столь же интересные произведения, как в период раннего киноимпрессионизма. Он бросался от одной темы к другой и окончательно расписался в своей
==272
капитуляции в модернизированной, лишенной всякого социального содержания экранизации «Денег» Золя (1928) и в «Белых ночах» (1929), поставленных по мотивам салонного романа Жозефа Кесселя.
Жан Эпштейн избежал такого творческого поражения, как Марсель Л'Эрбье, но и в его биографии можно обнаружить приключенческоэкзотический фильм «Лев Моголов» (1926) с Иваном Мозжухиным или экранизацию салонного «психологического» рассказа Поля Морана «Трехстворчатое зеркало» (1928). В фильмах Эпштейна, в том числе и самых слабых, всегда заметны творческие поиски, хотя бы и формальные; и даже в картинах с салонной тематикой мы ощущаем полуироническую улыбку, улыбку снисхождения по отношению к описываемой среде.
В «Падении дома Эшеров» (1928) Эпштейн воскресил традиции литературного символизма полувековой давности и ввел, пожалуй, впервые замедленный монтаж для выражения атмосферы хаоса и безнадежности, характерной для прозы Аллана Эдгара По.
Эстетские фильмы Л'Эрбье или более значительные, но также отмеченные печатью эстетизма картины Эпштейна появлялись на экране наряду с лентами конкурирующей фирмы «Альбатрос», основанной в начале двадцатых годов русскими эмигрантами. На французской почве возродились традиции дореволюционной русской психологической драмы режиссера Евгения Бауера, поклонника красивых декораций и стилизованной актерской игры. Такие фильмы, как «Пылающий костер» (1923) в постановке Мозжухина и Волкова или «Кин» (1925) режиссера Волкова представляли собой своеобразный тип коммерческой продукции, прикрывающейся модной экспрессионистской манерой. Изобразительное богатство (работа оператора и художника) сочеталось в этих фильмах с преувеличенным психологизированием в актерской игре и с декадентски безнадежным настроением сценариев.
Наиболее крупной фигурой, характерной для объединения искусства и кассовых интересов под флагом эстетизма, был Абель Ганс, создатель монументального фильма о Наполеоне. «Наполеон, увиденный глазами Абеля Ганса»,— таково полное название фильма, вышедшего на экраны в апреле 1927 года, после длительного съемочного периода. Это была первая часть произведения, охватывающего по замыслу режиссера всю жизнь французского императора. Реализовать этот проект не удалось, и, кроме «Наполеона», действие которого заканчивалось эпизодами первой итальянской кампании, в 1928 году в Берлине был снят лишь эпилог эпопеи —«Наполеон на острове св. Елены» (по сценарию Абеля Ганса режиссером Лупу Пиком).
Весь фильм, по авторскому замыслу, должен был служить восхвалению Бонапарта, а на практике — интересам всех его приверженцев и наследников, мечтавших вырвать Францию из «болота республиканского хаоса».
18
|
—5 |
|
==273 |
«Наполеон» как субъективно, так и объективно был реакционным фильмом.
Его политическую вредность разоблачил на страницах газеты «Юманите» критик-коммунист Леон Муссинак: «С общественной точки зрения «Наполеон»— произведение вредное, достойное осуждения и осужденное. В этом фильме французская революция разрушает все то хорошее, что было сделано старым режимом; революцией руководят безумцы, маньяки, дегенераты. К счастью, появляется Наполеон Бонапарт, чтобы навести порядок по законам дисциплины, авторитета и любви к родине, короче говоря, по законам военной диктатуры».
Военные акценты фильма не понравились либеральному, пацифистски настроенному критику газеты «Ле тан» Эмилю Вийермозу: «Сделать романтичной фигуру деспота, прикрыть киноцветами памятник тирана — это отвратительно как с философской, так и с исторической точек зрения. Приукрашивать романтизмом технику массового уничтожения — это тяжелая ответственность перед матерями, чьи дети, возможно, завтра окажутся под огнем пулемета. Пусть Абель Ганс не забывает, что, беря на себя роль летописца истории вчерашнего дня, он становится, не отдавая, быть может, себе в этом отчета, соавтором истории завтрашнего дня».
В «Наполеоне»— апологии милитаризма и военной диктатуры — сосредоточились все недостатки стиля режиссера и ущербность его философии. Несчастьем Ганса была его приверженность к упадочному, эпигонскому романтизму Эдмона Ростана и Викторьена Сарду. Это их глазами видел режиссер историю и исторических героев. Отсюда вся его драматургическая непоследовательность и дурной вкус. По ходу действия фильма Наполеон все время меняется. Так, например, Наполеон на Корсике — это новое воплощение спортивного Дугласа Фербенкса, с политиками он ведет себя, как Юлий Цезарь из провинциального театра, а в сценах с Жозефиной — он всего-навсего псевдоромантический комедиант. У Наполеона нет достойных противников, вокруг пего — трусы и ничтожества. А его друзья и сторонники — это идолопоклонники. Символика и пространные цитаты из различных исторических произведений, приведенные в титрах, еще более подчеркивают непереносимо напыщенный стиль зрелища.
Актер Альбер Дьедонне совершенно не справился с большой и ответственной ролью Наполеона.
Но тот же самый Муссинак, который резко осудил идеологию произведения, одновременно написал в своей рецензии, что «Наполеон» — это важная дата в истории развития кинематографического мастерства. И сегодня, спустя много лет, мы восхищаемся режиссерским талантом Ганса, произведением художника, уже тогда понимавшего и чувствовавшего природу кино.
В «Наполеоне» больше всего удались те сцены, в которых при помощи определенной техники съемок и монтажа автор добился поэтического настроения, взволновал зрителя. В сцене заседания Конвента Ганс поме-
==274
стил съемочную камеру на качелях над толпой, добившись тем самым необыкновенно сильного эффекта. Волна возмущения или радости пробегает через зал, и движущаяся камера передает реакцию депутатов. В эпизоде сражения под Тулоном автоматическую камеру прикрепили к груди одного из участников съемки, так что зритель оказывался как бы в центре битвы.
Но важнейшим техническим достижением и вместе с тем расширением художественных возможностей кино было применение тройного экрана, так называемого триптиха. Ганс при помощи триптиха либо усиливал реакцию зрителя, либо давал возможность зрителям одновременно воспринимать несколько событий. В одной из сцен, например, на первой части экрана мы видим марширующую колонну войск, на второй — показана карта Европы, а на третьей — Жозефина Богарне и на фоне ее лица (двойной экспозицией) — Наполеон. Такое сопоставление трех изображений конкретизировало исторические обстоятельства и вместе с тем объясняло внутренние причины начала итальянской кампании. Тройной экран служил в «Наполеоне» двум целям: он расширял поле зрения (как в эпизоде тулонской битвы) и создавал эффект одновременности действия (как в примере с итальянской кампанией). И в том, и в другом случае тройной экран, опережая на двадцать пять лет изобретение синерамы и широкого экрана, был более гибок, чем они. Во время демонстрации «Наполеона» тройной экран использовался только в тех случаях, если это было необходимо по ходу действия.
К сожалению, эксплуатационные трудности и отсутствие интереса со стороны кинопромышленников помешали распространению тройного экрана. Ганс вошел в историю кино как пионер панорамного кинематографа, а в 1955 году он снова вернулся к идее триптиха («поливидение»).
В производственном отношении «Наполеон» был суперколоссом. Первоначальный вариант фильма насчитывал пятнадцать тысяч метров; так называемый «большой вариант», демонстрировавшийся в нескольких парижских кинотеатрах, имел 10 700 метров (около восьми часов проекции); на торжественной премьере в Опере показали копию длиной 5500 метров, а в обычный прокат поступила копия 3500 метров. Чем короче был вариант, тем меньше становился понятен смысл фильма. Фильм казался зрителям случайным набором кадров. В течение четырех лет работы Ганс израсходовал астрономическую цифру — 450 тысяч метров негатива. Фильм стоил пятнадцать миллионов франков. Какую прибыль получила фирма, навсегда останется тайной бухгалтерских книг. Очевидно только одно — Абель Ганс больше никогда не получил денег, необходимых для продолжения съемок задуманной трилогии о Наполеоне. А его следующий фильм, вышедший уже в звуковом периоде, «Конец мира» (1930), был очень скромным произведением по сравнению с грандиозным «Наполеоном».
1-8*
==275
Эстетствующие кинорежиссеры поднимали престиж кинопродюсеров, но не приносили им прибылей. Казалось бы, такие произведения, как «Наполеон», смогут конкурировать как во Франции, так и за границей с американской продукцией. Практика, однако, опрокинула эти расчеты. Зрители, особенно за рубежом, предпочитали зрелищные фильмы без символики и литературных ассоциаций, фильмы типа «Бен Гура» или «Царя царей».
Французские кинопромышленники, как и их европейские коллеги, перед лицом американской экспансии выдвинули следующий лозунг: «Мало фильмов — дорогие фильмы — международные фильмы». Другими словами — лучше вложить десяток миллионов в один фильм, чем в несколько, но зато не жалеть денег на декорации, толпы статистов и приглашенных из разных стран актеров, чтобы привлечь к фильму внимание именами популярных звезд.
Всякое проявление национального характера в фильме встречало сопротивление дельцов, сторонников международных рецептов. Применяя эти рецепты, осовременивали классиков французской литературы, перенося действие «Денег» Золя или «Иветты» Мопассана в современность и заставляя выступать вместо французов — немцев, англичан, итальянцев и венгров. А когда «специалист по истории Франции» Раймон Бернар поставил «Чудо волков» (1924), фильм, действие которого происходило в эпоху Людовика XI, ему посоветовали в следующий раз выбрать более привлекательную и «международную» среду двора русской императрицы Екатерины II. И Бернар поставил фильмы «Игрок в шахматы» (1927) и «Тараканова» (1929).
Режиссеры, работавшие в коммерческом кино, так же как и авангардисты, все дальше уходили от жизни, и все большая пропасть отделяла действительность от ее кинематографического воплощения. Исходя из разных предпосылок, и авангардисты, и режиссеры коммерческого кинематографа совершили одну и ту же ошибку: они отказались от реализма, сознательно создавая на экране призрачный, воображаемый мир.
Неужели во французской кинематографии совсем исчезли реалисты? Как могло случиться, что на родине великолепной реалистической литературы кино оказалось в сфере формалистических и натуралистических влияний? Причин такого положения много, и о некоторых из них мы уже говорили. Здесь следует еще напомнить, что народный характер раннего французского кинематографа начала века уступил место натуралистическим и псевдоклассическим зрелищам «Фильм д'ар», подражавшего театру. Реакция же на «Фильм д'ар» выразилась не в обращении к народному реалистическому фильму, а в наступлении импрессионистов, а затем и формалистического авангарда. Декадентское французское искусство конца XIX — начала XX века также оказало влияние на кино; безразлично, было ли это влияние талантливых художников-импрессионистов, театра Антуана, литературы символистов или же влияние ремесленни-
==276
ков, авторов бульварных романов и пьес, оно всегда и неизменно усиливало антиреалистические тенденции.
Может быть, даже ближе к реализму были такие честные ремесленники, как Луи Фейад или Леон Пуарье, автор полудокументальной картины «Верден» (1928), или Анри Фекур, создатель добротной, хотя и иллюстративной экранизации «Отверженных» (1927), или Жак де Баронселли, лучшим произведением которого был «Исландские рыбаки» (1924). Баронселли очень верно сформулировал свои творческие убеждения, утверждая, что «нельзя говорить о двух типах фильма — для избранных и для народа. Это неправда: есть только один тип фильма. И не нужно ни презирать широкую публику, ни отрекаться от нее; нельзя кормить ее нищенской, поспешно приготовленной пищей под тем предлогом, что истинное искусство предназначено избранной категории зрителей. Надо стараться быть простым и правдивым и думать больше о том, чтобы волновать, а не о том, чтобы очаровывать».
Эти простые и искренние слова режиссера не нашли, к сожалению, поддержки в силе его таланта. И не Баронселли принадлежит честь доказать на практике их справедливость. К счастью для киноискусства, во Франции нашлись художники, выбравшие правильный путь и правильное направление. Они создавали популярные, предназначенные для широкой публики фильмы, отличавшиеся высоким художественным уровнем. Режиссерами, которые в конце двадцатых годов вывели французское киноискусство на широкую дорогу реализма, были Жак Фейдер и Рене Клер.
В 1948 году Рене Клер так определил историческую роль Фейдера: «Между 1920 и 1928 годом во французском кино определились две тенденции: с одной стороны эстетизм, авангард, поиски новых средств выражения; с другой — так называемый коммерческий фильм, который (как и сегодня Ролливуд) предназначен был лишь для того, чтобы делать сборы, придерживаясь устоявшихся формул. Опасности, которые несла вторая тенденция, были очевидны, но и первая была ошибочна, поскольку отдаляла кино от народных масс, без которых оно не может существовать. Заслуга Жака Фейдера в эту эпоху заключалась в том, что, противостоя обеим этим тенденциям, он создал фильмы, обращенные к публике из всех классов и обладавшие к тому же высокими художественными достоинствами».
Те же самые слова мог бы сказать и Жак Фейдер о фильмах Рене Клера двадцатых годов.
Жак Фейдер (1888—1948) начал работу в кино в качестве киноактера еще до войны, в 1912 году. Потом был ассистентом режиссера и наконец в 1915 году дебютировал как самостоятельный режиссер. До 1921 года он поставил несколько весьма посредственных фильмов. Только экранизация экзотической и модной в те годы повести Бенуа «Атлантида» стала переломной в карьере Фейдера. «Атлантида» (1921) вопреки тогдашним
==277
методам была снята в основном на натуре, и потому настоящей героиней фильма была не Антиноя, легендарная владычица исчезнувшего Maтeрика, а совершенно реальная, грозная и поэтическая пустыня Сахара, где проходили съемки. Уже в этом первом удачном фильме проявились и художественная концепция режиссера, и элементы стиля, которые нашли свое полное выражение в его последующих работах.
Фейдер был одним из немногих художников, понимавших, что только глубоко национальный фильм может иметь международный успех. В период, когда кинодельцы пропагандировали космополитический рецепт совместных постановок как единственное средство борьбы с американской экспансией, Фейдер верно и дальновидно определял пути развития киноискусства. «В Европе,— писал режиссер в 1926 году,— возникли три национальные школы: шведская, немецкая и французская. Чтобы противостоять волне американской продукции, захлестнувшей европейские экраны, необходимо, чтобы каждая школа развивала свои особые, присущие только ей черты. Фильм понравится публике пяти континентов в том случае, если он будет искренним, правдивым свидетельством национального стиля и темперамента и если он убедительно расскажет о жизни людей в данной стране». Год спустя Жак Фейдер еще раз подтвердил свои взгляды, высмеяв так называемые международные фильмы, пытающиеся быть одновременно и французскими, и немецкими, что является, конечно, творческой бессмыслицей. Пропаганда национального характера фильмов, столь редкая в те времена в капиталистических странах, в значительной мере определяла и отношение режиссера к проблеме экранизации.
Фейдер в отличие от своих коллег, особенно из авангардистского лагеря, охотно брал литературные произведения как материал для сценариев; литература помогала ему в характеристике среды, времени действия, людей. Однако Фейдер не был сторонником рабской, буквальной экранизации. По словам Рене Клера, он, «использовав сюжет... литературной истории, не предназначенной для кино, заставил жить ее второй жизнью с помощью нового средства выражения...». Экранизация была дляФейдера процессом, напоминающим оркестровку: простую мелодию (оригинальная тема литературного произведения) следовало расписать на отдельные инструменты.
Метод режиссерской работы Фейдера лучше всего характеризуют его собственные слова о рождении фильма. «В первую очередь атмосфера и среда, затем грубоватый сюжет, сильно приближающийся к романуфельетону, и, наконец, точное и тонкое воплощение».
Фейдер не был сторонником сложной съемочной и монтажной техники, его фильмы отличались простотой формы и были понятны всем. А если он и прибегал к усложненным приемам киноязыка, то делал это для того, чтобы более убедительно раскрыть какую-то идею, а не ради формальной эквилибристики. Так, например, экранизируя произведение
==278
Анатоля Франса «Кренкебиль» (1922), он показал (в сцене суда), как свидетель, напуганный вопросами прокурора и адвокатов, сжимается и уменьшается, а когда он вновь обретает уверенность в себе, то вырастает до гигантских размеров. Анатоль Франс, всегда недолюбливавший кино, признал, что экранизация очень удачна, и даже выразил удивление, что в его новелле Фейдер обнаружил качества, о существовании которых он сам, автор, и не подозревал.
После «Кренкебиля» Фейдер поставил несколько добротных, но ничем не примечательных фильмов: «Лица детей» (1924), «Портрет» (1926) и «Грибиш» (1926). Некоторой уступкой коммерческому кино была «Кармен» (1926), картина, созданная специально для популярной эстрадной звезды Ракель Меллер. Фильм не был лишен достоинств, он давал живой и интересный образ Испании, но его основным недостатком была трактовка образа Кармен как пассивной жертвы судьбы, трактовка, абсолютно противоречащая замыслу Проспера Мериме.
Печальный опыт сотрудничества с кинодельцами и вызвал, вероятно, пессимистическое слова Фейдера, сказанные им в интервью для «Юманите». «Мне кажется маловероятным,— заявил режиссер,— чтобы кино могло нормально развиваться в рамках существующей экономической системы».
После этого режиссер попытал счастья в Германии, где для немецкой фирмы поставил «Терезу Ракен» (1928). Было бы неверно считать этот фильм изменой идеалам и примирением с так называемой международной продукцией. В действительности «Тереза Ракен»— один из самых французских фильмов: дух произведения Эмиля Золя полностью сохранен в фильме, а превосходная исполнительница главной роли Жина Манес создала правдивый и полнокровный образ героини.
Экранизируя роман, режиссер постоянно помнил то, что говорил автор в предисловии ко второму изданию «Терезы Ракен». «Героями произведения,— писал Золя,— являются люди, действующие под влиянием нервов и крови, лишенные собственной воли, направляемые в каждой минуте их жизни фатализмом тела. Каждая глава книги — это исследование интересного физиологического случая». Фейдер сохранил душную эротическую атмосферу литературного первоисточника и одновременно кинематографическими средствами вскрыл причины трагедии ^.Терезы. Он разоблачил подлинного убийцу — затхлый мелкобуржуазный мирок лицемерия, ханжества и фальшивой морали.
Фейдер перенял у Золя не только дух его произведения, но и творческий метод, его любовь к бытовым деталям, к подробностям. В фильме «Тереза Ракен» эти детали служат ключом к пониманию психологии героя. Золотая рыбка, плавающая в аквариуме, символ неподвижной, замкнутой Терезы. Изменения в привычке и в одежде дают понять о романе с Лораном и одновременно — представление о течении времени. Наконец в последних сценах фильма кресло, к которому прикована парализованная
==279
мать Камила, превращается в кошмар, в мучительное угрызение совести, заставляющее в конце концов любовников-преступников покончить жизнь самоубийством.
«Тереза Ракен» Фейдера вошла в историю кино как одно из величайших достижений камерного жанра.
Чтобы выявить скрытый динамизм темпераментов и человеческих страстей при внешнем спокойствии, на фоне мертвой статики вещей, необходим был большой режиссерский талант. Особые приемы освещения, наплывы и затемнения как метод связи кадров, плавные движения аппарата — все это дало в результате сдержанный и одновременно аналитический, обнажающий психологию персонажей стиль постановки.
Полной противоположностью «Терезе Ракен» был последний немой фильм Фейдера, поставленный им во Франции,—«Новые господа» (1928), экранизация пользовавшейся огромным успехом на парижских бульварах комедии де Флера и Круассе под тем же названием.
Комедия изображала в кривом зеркале сатиры парламентские нравы и образ жизни политических деятелей Третьей республики. Критиковались как аристократы справа, так и карьеристы слева. Этим последним досталось, может быть, даже больше, ибо авторы показали, как молодой профсоюзный деятель, став министром, потерял голову от успехов и почувствовал себя спасителем страны. Его политический противник и одновременно соперник в любви — старый маркиз — гораздо умнее и опытнее. Несомненно, острие сатиры было обращено прежде всего против социалдемократов, быстро обуржуазивающихся.
На сцене комедия вызывала смех, и только. На экране же обнаружилась вся лживость буржуазного парламентаризма, что, естественно, задело тех, кто хотя и не по имени, а по положению стал предметом критики. Цензура не допустила демонстрации фильма, возражая против сцены драки на заседании парламента («а этого никогда не бывает...») и церемонии открытия рабочего поселка, которую министр провел кое-как, потому что спешил на свидание. Цензуре также не понравилось, что депутат после ночных приключений засыпает на заседании и ему снится, будто скамьи депутатов занимают очаровательные балерины.
Кто дал указание цензуре запретить фильм — этого мы никогда не узнаем, ибо все заинтересованные под нажимом общественного мнения и прессы заявили о том, что они не предпринимали никаких шагов в этом направлении: и тогдашний председатель палаты представителей Фернан Буассон, и министр внутренних дел Андре Тардье, и Франсуа Понсе.
ведавший вопросами культуры. В конце концов с некоторыми купюрами фильм вышел на экраны с юмористическим вступлением, в котором было сказано, что изображенный в фильме парламент не имеет отношения к французскому парламенту, а является плодом воображения автора... Таким образом, как будто н волки были сыты, и овцы целы. Во время сражения
К оглавлению
==280
с цензурой Жак Фейдер находился уже в Америке, где снимал фильм с Гретой Гарбо «Поцелуй» (1929). «Новые господа» были полезной школой для режиссера, осознавшего огромную общественную силу воздействия киноискусства.
В период немого кино Жак Фейдер не создал произведений, которые могли бы соперничать с коммерческим успехом фильмов типа «Чудо волков» и с необычностью фильмов киноавангарда. Однако именно этот режиссер, идущий своей собственной дорогой, занял в марте 1927 года в плебисците Комитета друзей кино первое место среди кинорежиссеров. Результат плебисцита свидетельствовал, что вопреки мнению снобов, презиравших публику, и вопреки мнению кинодельцов, считавших, что у публики нет вкуса, французские зрители сделали правильный выбор. Тот же самый презираемый или недооцениваемый французский зритель первым, еще до критиков, выразил свое восхищение великим талантом Рене Клера.
Рене Клер занялся режиссурой в 1923 году, имея за плечами опыт работы в журналистике; он выступал также в качестве киноактера и ассистента Жака де Баронселли. Первым самостоятельным фильмом Клера была фантазия под названием «Париж уснул, или Невидимый луч» (1924). Дебют его можно рассматривать как программный манифест, о чем лучше всего свидетельствовала статья, опубликованная в парижском журнале «Комедиа» в связи с премьерой фильма. В статье Рене Клер объяснял, что развитие кинотехники не меняет существа кинозрелища. Эстетика кино родилась вместе с первыми фильмами братьев Люмьер, в них соединялись внешнее движение предметов и людей и внутреннее движение самого действия. Из единства двух движений рождается ритм фильма. Для прогресса киноискусства необходимо вернуться к люмьеровской традиции и перестать показывать мертвые пейзажи или бесконечные разговоры неподвижных актеров.
Фильм « Париж уснул» через контраст движения и неподвижности (замирающая под влиянием таинственного луча, а затем пробудившаяся столица) напомнил о старых и забытых истинах. Актеры подчинялись законам и дисциплине движения, а их мимика и жесты напоминали участников бесконечных погонь в «комических» до 1914 года. Режиссер этой веселой фантазии обратился к традиции ранней французской школы кино, в ней он искал элементы народного стиля. Скромный со всех точек зрения фильм с Андре Дидом, основанный на мотиве погони («Погоня за париком»), научил Клера, по его собственным словам, больше многих известных произведений кино. Творчество молодого режиссера с самого начала развивалось под знаком традиций популизма, а не эстетских школ.
И потому нельзя считать «Антракт» (1924) только дадаистской выходкой. Его следует рассматривать как продолжение экспериментов Клера с движением в кино. Лучшим доказательством именно такой позиции
==281
являются его собственные слова, объясняющие происхождение «Антракта», в которых он обрушился как на любителей коммерческих «кинороманов», так и на снобов, признающих лишь фильмы для избранных. «Кинематограф создал несколько достойных произведений,—писал Клер.— «Политый поливальщик», «Путешествие на Луну» и некоторые американские комедии. Другие фильмы (несколько миллионов километров пленки) были в той или иной мере испорчены „традиционным искусством"». Таким образом, «Антракт»— это не только набор авангардистских приемов, но и обращение к традициям Люмьера, Мельеса и Мака Сеннета. А такие цели не ставили перед собой авангардисты, убежденные, что они все создают заново. В «Антракте» можно выделить два направления: дадаистское, проявляющееся в необычности ассоциаций и особенно в ярмарочном эпизоде (танцовщица и стрельба по цели), и традиционалистское — в эпизоде похоронной процессии, завершающемся безумной погоней в стиле старых «комических». В «Антракте» уже формировался индивидуальный стиль Клера, в особенности его пристрастие к балетной композиции фильма, в основе которой лежит ритм танца, определяющий как монтаж, так и движения актеров.
Здесь, вероятно, сказался и личный опыт Клера, который выступал как актер в интересном фильме-балете, поставленном известной танцовщицей Лой Фюллер, «Лилия жизни» (1920).
В следующих фильмах Клера —«Призрак Мулен Ружа» (1924) и «Воображаемое путешествие» (1925) — появляется новый элемент стиля режиссера — фантастика в сочетании с сатирой и шуткой. Клеровская фантастика не имела ничего общего с мучительными кошмарами немецкого экспрессионизма, зато в ней легко обнаружить сходство с фантазиями Мельеса. Мельесовские духи не мучают людей, а подшучивают над ними. Призрак из Мулен Ружа, устраивающий веселые проделки над своими земными знакомыми,— это предшественник американских фильмов Клера «Привидение едет на Запад» (1935) и «Я женился на ведьме» (1942). В «Воображаемом путешествии» наряду с духами и колдуньями впервые появились жители Парижа — мещане, мелкие чиновники, сторожа, владельцы маленьких магазинчиков и т. д. Этот специфический мирок парижских улочек и переулков не раз будет возвращаться в следующих произведениях Клера, режиссера, сделавшего столицу Франции одним из героев многих своих фильмов.
Как для Фейдера, так и для Клера 1926 год был годом компромисса. Клер согласился экранизировать неинтересный роман Армана Мерсье «Любовное приключение Пьера Виньяля». Фильм вышел под названием «Добыча ветра» (1926), не принеся радости ни режиссеру, ни актерам.
Лишь в следующем году Рене Клер добился большого успеха, перенеся на экран популярный в середине XIX века водевиль Лабиша и Мишеля «Соломенная шляпка». Экранизация водевиля в немом кино таила опасность из-за невозможности передать надписями все содержание
==282
диалогов. Клер успешно преодолел эту трудность, найдя нужный ключ для кинематографического воплощения водевиля — ключом этим стал балет.
Экранный вариант водевиля стал намного смешнее оттого, что время его действия в фильме перенесено на пятьдесят лет вперед, в конец XIX века, эпоху карикатурного апогея буржуазного дурного вкуса. «Соломенная шляпка» (1927) начинается надписью — 1895 год.
Эта надпись сразу уводит зрителя в эпоху первых люмьеровских фильмов, населенных персонажами, известными по олеографиям и почтовым открыткам (например, смелый гусарский офицер или сентиментальная невеста). Клер довольно добродушно высмеивал французское мещанство, старое чаплиновское правило — показывать смешными людей, которые хотят казаться солидными и важными — находит в Клере талантливого продолжателя. Вокруг комедийных ситуаций (соломенная шляпа, съеденная лошадью, и приключения глухого как пень дядюшки) Клер строит юмористические перипетии. Наряду с чаплиновскими комедиями «Соломенную шляпку» можно причислить к классическим произведениям комического жанра в немом кино.
Прежде чем приступить к постановке следующего художественного фильма, Рене Клер снял в 1928 году очаровательный репортаж «Башня» о строительстве и архитектуре Эйфелевой башни. Кружевные железные конструкции, заснятые из движущегося лифта, создавали прекрасную зрительную поэму об этой достопримечательности Парижа.
«Двое робких» (1928) — это новое путешествие в страну водевиля. И на сей раз авторами сценического первоисточника были Лабиш иМишель. История адвоката, которому не хватает смелости, чтобы добиться руки любимой, дала возможность Клеру нарисовать сатирический портрет нотаблей провинциального городка. «Двое робких» не могут, конечно, по легкому танцевальному ритму действия сравниться с «Соломенной шляпкой», но в них появилась новая, неизвестная еще сентиментальная нотка, подчеркнутая прекрасными натурными съемками.
Так же как Фейдер, Рене Клер выбрал единственный верный путь создания подлинного искусства для широкого зрителя. Он умело связывал эксперименты с художественными традициями. Очень справедливо замечание Эдмона Гревилля, молодого французского режиссера, который парадоксальную на первый взгляд способность Клера делать подлинно кинематографичные фильмы по сценариям, построенным на чисто литературных приемах, объяснял тем, что Клер не только режиссер, но талантливый писатель. Клер в совершенстве знает специфические особенности кино и литературы, так что может уберечься от ненужного их соединения.
Художник, воспитанный в атмосфере уважения к старому французскому искусству, мог попытаться создать реалистический французский фильм, отдавая себе отчет в важной общественной роли, которую играет народное кинозрелище. Клеру, как пишет его биограф Жорж Шаренсоль,
==283
удалось найти художественное равновесие элементов комизма, фантазии и народности.
Фейдер и Клер не были единственными представителями реалистического направления во французском кино. В конце двадцатых годов как под их влиянием, так и независимо от них появилось немало режиссеров, выбравших вопреки эстетам и вопреки дельцам третий путь. В тот год, когда французское кино добилось успехов благодаря «Терезе Ракен» и «Соломенной шляпке», на экранах Парижа появился замечательный реалистический фильм «Страсти Жанны д'Арк» (1928) Карла Теодора Дрейера.
Режиссер этот не был новичком в кино, но во Франции он делал свою первую постановку и не без сопротивления продюсеров, которые считали бестактным доверять иностранцу, датчанину, постановку фильма о национальной героине Франции. Карл Дрейер нигде не мог найти работу, ибо на его родине не было условий для создания художественно ценных произведений. Несчастье Дрейера заключалось в том, что он начал работать в тот период, когда датская кинематография уже находилась в периоде распада. Вот почему режиссер странствовал из страны в страну, снимал фильмы в Швеции, Норвегии, в Германии, а в 1927 году приехал во Францию. Здесь знали его датскую картину «Хозяин квартиры» (1925), превосходную психологическую комедию о тиране домашнего очага, и более ранний исторический фильм, снятый в Швеции, «Вдова пастора» (1921). Эти два известных во Франции фильма и слава, окружавшая его самое выдающееся произведение, датскую «Нетерпимость» — «Страницы из дневника сатаны» (1921), помогли Дрейеру заключить контракт с небольшой французской фирмой на постановку фильма о Жанне д'Арк.
Режиссер не ставил перед собой задачу сделать исторический фильм в обычном смысле этого слова. В его истории Жанны д'Арк не было постановочной пышности, сцен с участием тысяч статистов.
Сценарий фильма, написанный Жозефом Дельтейлем по архивным материалам о процессе в Руане, ограничивал время и место действия последними неделями жизни героини. В фильме было только четыре декорации — часовня, тюрьма, комната пыток и площадь Руана, на которой сооружен костер. Не бытовые детали и обстановка интересовали режиссера, а человеческая драма. В «„Страстях Жанны д'Арк'',— говорил Дрейер,— я хотел показать правду, человеческую правду. В фильме важна не объективная драма вещей, а внутренняя драма человеческих душ».
Для воплощения этого замысла нужна была новая форма и новый метод работы. Фильм построен почти исключительно на крупных планах, словно бесконечный диалог человеческих лиц: и измученного лица Жанны, и суровых, жестоких глаз и губ ее палачей, членов церковного трибунала. Нашлись критики, которые сочли форму фильма «антикпнематографичной», обвиняя Дрейера в том, что будущее киноискусства он видит в иллюстрировании движущимся образом написанного слова.
==284
В этих догматических суждениях проявилось неумение увидеть в произведении искусства новые и оригинальные качества. Форма «Страстей Жанны д'Арк» была не режиссерскоУпричудой, а сознательной попыткой добиться максимальной концентрации чувств, всей полноты человеческого переживания. Разве можно было иначе показать психологическую драму девушки, у которой хотят отнять веру в правоту ее убеждений? Разве можно было иначе, без помощи слова, показать — минута за минутой — духовную борьбу, борьбу загнанного, несчастного человеческого существа? Спустя много лет и после того, как экран заговорил, немой фильм Дрейера, как отчаянный крик, звал на борьбу с несправедливостью.
Фильм Дрейера глубоко гуманистичен. Процесс Орлеанской Девы стал достоянием истории, а героическая Жанна, сожженная некогда, как еретичка, была впоследствии причислена римско-католической церковью к лику святых. Но сам процесс не утратил актуальности. И по сей день идет борьба неравных сил, и прав был Леон Муссинак, считая процесс в Руане предсказанием многих драм, примеры которых дает повседневная практика классовой борьбы.
Фильм о Жанне был чрезвычайно актуален в 1928 году, когда весь мир был потрясен известием о смерти на электрическом стуле Сакко и Ванцетти, жертв капиталистического «правосудия».
Карл Дрейер применил отличную от общепринятой систему работы. Сцены снимались в хронологическом порядке, а актеры выступали без грима. Хотя это был немой фильм, актеры произносили текст диалогов. Режиссер отказался от оркестра, который, как правило, при съемках немых фильмов создавал настроение у актеров. «В тишине легче найти себя»,— считал Дрейер.
Несмотря на протесты архиепископа Парижа и цензурные купюры, «Страсти Жанны д'Арк» встретили горячий прием у зрителей. В этом фильме, появившемся в самом конце немого периода, ощущалось чистое благородное дыхание гуманизма. Вместе с тем это была победа реализма, творческого метода, выражающего полную правду о человеке.
В конце двадцатых годов число сторонников третьего пути увеличилось. Уже не только Фейдер, Клер и Дрейер укрепляли связи между искусством и зрителем. Ряды реалистов пополнились Жаном Ренуаром, который после просмотра «Безумных жен» Штрогейма пережил озарение реализмом и создал фильм «Нана» (1926), картину разложения буржуазии в период Второй империи, сознательно ориентируясь на лучшие традиции великого французского искусства. «В картинах моего отца и других художников,— писал Ренуар,— я старался открыть тайну нацио^ нального жеста, чтобы показать его на экране». В сценах, где выступают танцовщицы, в остроте видения и в отсутствии всякой идеализации чувствуется влияние полотен Дега.
==285
Под влиянием демонстрировавшихся тогда во Франции советских фильмов покинул эстетскую башню из слоновой кости и Жан Эпштейн, сняв прекрасный фильм о жизни бретонских рыбаков «Finis terrae» (1929). В фильме были заняты непрофессиональные актеры, и вся картина — это образный диалог двух стихий: моря и земли.
Доказательством усиления реалистических тенденций может служить появление молодого поколения документалистов-авангардистов, которые свою миссию видели в отражении на экране действительности.
Пьер Шеналь — автор репортажа о работе парижских киностудий «Кинематографический Париж». Жорж Лакомб интересно рассказал о парижских старьевщиках в картине «Зона» (1928), а лауреат конкурса журнала «Сине-магазин» на лучшую рецензию кинокритик Марсель Карне создал поэтический фильм о ярмарочных развлечениях в предместьях Парижа «Ножан, воскресное Эльдорадо» (1930). И наконец, в завершение немого периода в парижском кинотеатре авангардистов «Старая голубятня» состоялась премьера документального фильма молодого дебютанта Жана Виго «По поводу Ниццы» (1930).
Жан Виго*— сын арестованного и, по слухам, убитого полицией за антивоенную журналистскую деятельность в период первой мировой войны анархиста Альмерейда Виго. Крестным отцом будущего режиссера был Жан Жорес. Виго, с детства больной туберкулезом, проведший половину своей короткой жизни в санаториях, работал над этим фильмом в трудных полулюбительских условиях в течение трех лет. Помогал ему кинооператор Борис Кауфман, родной брат Дзиги Вертова.
«Мой фильм,— говорил Жан Виго на парижской премьере,— это шаг в направлении социального кино. Он тем отличается от обычных репортажных фильмов и хроники, что автор хочет в нем подчеркнуть свою точку зрения, поставить точку над i». Фильм показывал контраст Ниццы бездельников и Ниццы трудящихся, готовящих для богатой элиты ежегодное карнавальное зрелище. «Мой фильм,— говорил Виго,— показывает последние конвульсии общества, которое до такой степени забыло о своей ответственности, что привело нас к неизбежному революционному выводу».
Фильм Виго был последним аккордом реалистического направления во французском немом киноискусстве и одновременно первой ласточкой нового, углубленного реализма, который в эпоху звукового кино привел многих режиссеров Франции на позиции борьбы за лучшее будущее человека.
Виго, Жан (1905—1934). В 1925—1926 гг. изучал литературу в университете. В 1926—1928 гг. находился в санатории для туберкулезных больных. В последующие два года работал помощником фотографа.
Фильмы: «По поводу Ниццы» (1930), « Жан Тарис, чемпион по плаванию» (1932), «Ноль по поведению» (1933), «Аталанта» (1934).
==286
00.htm - glava26
Глава XXIII КИНО В ДРУГИХ СТРАНАХ
В конце двадцатых годов на земном шаре, пожалуй, уже не осталось ни одной страны, в которой не снимались бы фильмы. Конечно, успех этих попыток определяла степень экономического и культурного развития. Чаще всего дело сводилось к созданию немногих, иногда нескольких десятков документальных фильмов. Такого рода продукцией могли похвастаться балканские и скандинавские (за исключением Швеции) страны, а также большинство южноамериканских республик. В некоторых же странах кинофильмы выходили более упорядочение и регулярно, создавались также и художественные картины. На Европейском континенте такими странами были Испания, Португалия, Австрия, Чехословакия и Польша. В Южной Америке в период немого кино лишь Аргентина сумела наладить национальное кинопроизводство. Наконец, в Азии довольно рано, примерно к 1914 году, возникла японская кинопромышленность, выпускавшая ежегодно сотни фильмов.
Какую роль сыграли эти рассеянные по всему свету кинематографии в развитии киноискусства? Каков был их художественный вклад? Ответить на этот вопрос нелегко. Первая и основная трудность заключается в том, что в большинстве случаев фильмы малых кинематографий не известны и даже не описаны, поэтому нельзя определенно говорить о художественных достоинствах или недостатках фильмов, которые мы знаем лишь по названиям. Вторая трудность — это невозможность определить четкие сравнительные критерии, поскольку, например, фильмы азиатских стран создавались на основе совершенно иных эстетических принципов, нежели европейские или американские. И наконец, третья и последняя трудность: творческие связи и взаимовлияние кинематографических центров были более тесными и имели большее значение в годы немого кино, нежели в следующем периоде, когда кино заговорило. И сегодня нельзя точно установить все прямые и косвенные последствия этих международных контактов.
В середине двадцатых годов, в сущности, лишь четыре кинематографии вносили серьезный вклад в развитие и формирование киноискусства:
==287
Советского Союза, Франции, Германии и Соединенных Штатов Америки. Из прежних «киногигантов» Дания и Швеция в этот период переживали глубокий кризис, в двух других — в Италии и Англии — лишь в самом конце немого периода появились первые признаки возрождения киноискусства.
Из других не рассматривавшихся до сих пор центров производства кинофильмов большинство не могло похвастаться серьезными художественными достижениями. Фильмы, снимавшиеся в Испании и Португалии, демонстрировались только на местных рынках, да еще в Латинской Америке. Обе эти страны не сумели создать оригинального национального стиля, и их фильмам было далеко даже до среднего уровня коммерческой продукции Франции или Италии. Точно так же можно оценить австрийскую кинематографию, которая благодаря организационным талантам Александра Коловрата, основателя и директора студии «Саша-фильм» в Вене, играла одно время довольно значительную роль в развитии так называемой международной продукции. В Вене встречались актеры и режиссеры со всего Европейского континента и общими усилиями создавали космополитические драмы, комедии или оперетты. В Австрии проходили съемки монументальных исторических фильмов,поражавших пышностью декораций и тысячными толпами статистов, таких фильмов, как «Содом и Гоморра» (1922) и «Самсон и Далила» (1923) режиссера Михая Кертеса. Серия музыкальных фильмов о Штраусе, Легаре и Шуберте ни в малейшей степени не предвещала тех успехов, которых достигли австрийские ателье в этой области в тридцатые годы.
Из стран, возникших на развалинах австро-венгерской монархии, только Чехословакия может похвастаться интересными фильмами. Венгрия пережила в течение пяти революционных месяцев 1919 года период национализированной кинематографии, однако планы развития социалистического кино были сорваны победой реакции. Адмирал Хорти не создал в годы немого кино условий для развития кинопромышленности, не говоря уже о художественном уровне фильмов.
Многие творческие работники венгерского кино, довольно бурно развивавшегося в годы первой мировой войны, были вынуждены покинуть страну. Среди эмигрантов оказался и один из первых теоретиков нового искусства Бела Балаш.
Из стран, в которых фильмы не выпускались регулярно, необходимо вспомнить о Голландии, родине одного из самых выдающихся режиссеров-документалистов Йориса Ивенса. В последние годы немого кино Ивенс создал свои первые фильмы —«Мост» и «Дождь».
Наконец, рассматривая кинематографию двадцатых годов, нельзя обойти молчанием японское кино, которое, правда, не повлияло на формирование европейского и американского немого кино, но создало свой собственный специфический стиль, отличающийся высокими художественными достоинствами. Японское кино, которое вызвало сенсацию
==288

77 Морис де Фероди в фильме «Кренкебиль» Ж. Фейдера (1923)

78 Из фильма «Новые господа» Ж. Фендера (1929)

79 Из фильма « Париж )снул» Р. Клера (1923)

80 И3 фильма «Соломенная шляпка» Р. Клера (1927)
81 ,82 Гене "Фальташетти в фильме «Страсти Жанны д'Арк» К. Дрейера (1928)
 |
 |
 |
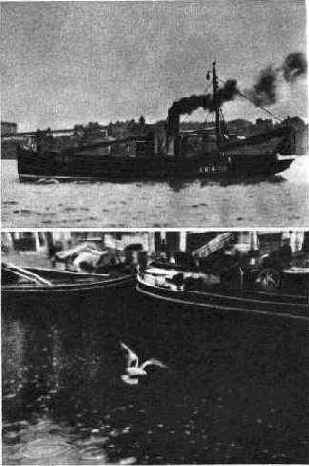 |
83
|
Из фильма «Рельсы» М. Камерини (1929) |
|
84 Из фильма «Рыбачьи с>да» Д. Грирсон.1 (1929) 85 Из фильма «Дождь» И. Ивенса (1929) |

86 Карел Нолл в фильме «Бравый солдат Швейк» К. Ламача (1926)
на международных кинофестивалях 50-х годов, прошло долгий и трудный путь развития. Об этом следует помнить. А вот индийское и китайское кино представляют интерес только в звуковом периоде, ибо годы немого кино не сформировали творческого лица этих кинематографий. Так же обстояло дело с мексиканским и бразильским кино. Только с приходом звука они смогли внести свой вклад в мировое киноискусство.
Такой краткий обзор кинематографий был необходим для упорядочения материала и для подготовки ответа на поставленные в начале главы вопросы. Чтобы создать полную картину состояния киноискусства в немом периоде, нам придется поговорить об итальянской и английской кинематографиях, заняться чехословацким и польским кино, остановиться на венгерском эксперименте 1919 года, рассмотреть деятельность Белы Балаша и Йориса Ивенса и закончить эту панораму мирового кино рассказом о японской кинематографии, находившейся в изоляции, вдали от главных путей развития «седьмого искусства».
В первые послевоенные годы Италия еще пользовалась плодами былого величия. Итальянские фильмы охотно покупались странами Центральной и Южной Европы, и даже Америка не закрывала двери перед итальянским импортом. Еще в 1923 году, то есть в период расцвета американского кино, в одном из плебисцитов на самую популярную звезду первое место заняла не Мэри Пикфорд, а Франческа Бертини. Однако процветание длилось недолго, оно покоилось на очень шатком экономическом и творческом фундаменте.
В 1919 году, отвечая на анкету о будущем итальянского кино, распространенную журналом «Ля вита чинематографика», критик Джузеппе Вити заявил: «У итальянцев нет творческой силы. Они предпочитают спать, сладко мечтая под лазурным небом родины. Современная итальянская кинематография — это прибежище второсортных и третьесортных авторов. Это прибежище разбойников, обкрадывающих старые литературные и драматургические шедевры, чтобы прикрыть бездарный фильм именем великого писателя».
Фильм ставился с целью продемонстрировать красоту звезды, поразить публику пышностью декораций. Или же ее стремились завлечь названием всемирно известного романа, экранизируемого не в первый раз. Таково происхождение новых вариантов «Камо грядеши?» (1924) или «Последнего дня Помпеи» (1926). А «Мессалину» (1923) пионер исторического фильма Энрико Гуаццони снял только для того, чтобы ослепить зрителей гонками квадриг (еще до «Бен Гура» Фреда Нибло) и дать возможность блеснуть красотой и талантом графине Лигуора, исполнительнице главной роли.
Итальянские исторические фильмы быстро вырождались и все чаще напоминали карикатуру на свое величественное прошлое.
19-5
==289
Делались попытки вернуть исторический фильм к жизни посредством модных в те годы «международных комбинаций». Продюсер «Камо грядеши?» и создатель УЧИ («Унионе чинематографнка итальяна»), мощного треста, объединившего все студии и прокатные конторы, адвокат Бараттоло пригласил на роль Нерона из Германии Эмиля Яннингса и Георга Якоби как сорежиссера Габриеллино Д'Аннунцио.
Но ни знаменитые имена, ни миллионы, потраченные на фильм, не сделали его событием искусства. Новый вариант «Камо грядеши?» был гораздо слабее фильма Гуаццони, который десятью годами раньше завоевал для итальянской кинематографии иностранные рынки.
Еще печальнее и одновременно забавнее история создания «Последних дней Помпеи». Сначала постановщиком фильма был Амлето Палерми, а в главных ролях снимались известные итальянские актеры Диомира Якобини и Лидо Манетти. По ходу съемок продюсеру не хватило денег, и он поехал в Вену, чтобы найти средства для завершения фильма. В Вене обещали помочь, но при условии замены исполнителей главных ролей на популярных тогда венгерских актеров Марию Корда и Виктора Варкони. Продюсер согласился на это предложение, заплатил итальянским звездам миллионную компенсацию и повторил съемки с новыми исполнителями. Но опять не хватило денег. На этот раз продюсер отправился в Берлин. Здесь также поставили условие: ввести немецкого актера Бернарда Гёцке и заменить режиссера. Продюсер и на это дал согласие, пригласив для завершения фильма Кармине Галлоне. Результат всех этих операций? Появление на экранах слабого фильма стоимостью семь миллионов лир. И каждая такая международная продукция кончалась серией банкротства, ликвидацией студий и прокатных контор. Мощный трест УЧИ, который, по замыслу его основателя, должен был противостоять конкуренции Соединенных Штатов не выдержал провала «Камо грядеши?».
После 1924 года судьба итальянской кинематографии была решена. У ней уже не было ни организационных, ни — что важнее — творческих сил, чтобы вдохнуть жизнь в разъедаемый коммерческой ржавчиной производственный аппарат. Духовный отец итальянского кино предвоенных лет Габриель Д'Аннунцио после своей лебединой песни, экранизации драмы «Корабль» (1920, режиссер Габриеллино Д'Аннунцио, сын поэта), отошел от кино. В новых политических и общественных условиях д'аннунцианизм перестал привлекать публику. После войны риторика опротивела, а фашизм еще не успел вновь приучить к ней общество.
В кино пришли новые писатели — пророки, любимцы итальянской буржуазии — Гуидо да Верона и переводимый на все языки мира Питигрилли. Это они задают теперь специфически декадентский тон итальянским салонным драмам. Итальянское кино, скованное тесными рамками светских конфликтов, задыхалось в душной атмосфере глупейших исто-
К оглавлению
==290
рий любви, ненависти и ревности. Героями безнадежно примитивных будуарных романов все чаще становились так называемые романтические итальянцы, завсегдатаи пансионатов для иностранных туристов. Итальянское кино рвало связи с литературными традициями и становилось наряду с бульварной литературой и скверным театром выразителем мелкобуржуазных вкусов. Вытесненное с иностранных рынков, оно начинало терять почву под ногами и в самой Италии, где все более ощутимой становилась американская конкуренция. До прихода к власти Муссолини спасти отечественную кинематографию пытался профсоюз работников кино ФАЧИ («Федерационе артистика чинематографика итальяна»), объединявший в своих рядах как творческих деятелей, так и технический персонал. 28 ноября 1921 года союз организовал массовую демонстрацию перед министерством промышленности под лозунгом защиты интересов итальянского кино. Правительство, однако, не спешило с принятием мер. А несколько месяцев спустя, после фашистского марша на Рим, профсоюзы потеряли все свои права. Теперь судьбы кинематографии решал только и исключительно Муссолини.
Новый вождь Италии не жалел туманных обещаний, настаивая вместе с тем на том, чтобы итальянские кинопромышленники сами доставали деньги на создание фильмов. Дуче подчеркивал роль и значение кино для укрепления строя и пропаганды фашистских идей. Он даже милостиво согласился лично выступить в кинотрилогии, посвященной маршу на Рим: «Марш в ночи», «Марш днем» и «К небесам». Фильмы эти демонстрировались в годовщину марша на Рим. Но ни участие главы государства в документальных фильмах, ни создание государственного института ЛУЧЕ (1925), целью которого была пропаганда фашистских идеалов средствами кино, не помогли разваливающейся кинематографии.
Не помогла ему также и специальная фашистская киноорганизация («Кооператива чинематографика фашиста»), созданная в 1923 году писателем Кальцо Бини.
Словом, все попытки возрождения былого величия кончились неудачей. В 1927 году фашистское правительство начало непосредственно вмешиваться в кинопроизводство, заключив соглашение с новым монополистом Стефано Питталуга, который на развалинах империи УЧИ создал новый трест, объединивший несколько сотен кинотеатров на территории всей страны и четыре киностудии—«Чинес», «Цезарь», «Палатино» в Риме, а также «Итала» в Турине. Муссолини представил Питталуге монопольное право на эксплуатацию фильмов, создаваемых институтом ЛУЧЕ, оказав ему одновременно поддержку в налаживании производства художественных фильмов.
Затем Муссолини издал декрет, согласно которому итальянские кинотеатры с 1 октября 1928 года должны были демонстрировать не менее 10% национальных фильмов. Декрет, названный по имени подготовившего
19*
==291
его текст, Декретом Беллуццо, вначале не имел реальных шансов претворения в жизнь. Как писала иностранная пресса, сотни владельцев итальянских кинотеатров тщетно искали итальянские фильмы, чтобы обеспечить соблюдение декретной квоты. Но добыть эти фильмы было нелегко, ибо Питталуга, связанный соглашениями с американскими студиями «Парамаунт» и «Фёрст нэшнл», а также с немецкими УФА и «Терра», больше заботился о прибылях от проката, нежели о производстве национальных итальянских фильмов.
В середине двадцатых годов появились небольшие независимые студии, поставлявшие кинотеатрам фильмы для выполнения декретной нормы. Именно эта антитрестовская оппозиция предвещала будущее возрождение итальянского кино. Его расцвета пришлось ждать еще около двадцати лет, но все же первые ласточки появились в последние два года немого периода.
В 1928 году была создана кооперативная организация, сокращенно называемая АДИА («Консорцио чинематографико аутори э диретторн итальяни асочиати»). Основателями этой организации были несколько режиссеров и сценаристов, в частности молодой постановщик Марио Камерини.
который дебютировал в 1923 году фильмом «Джолли, цирковой клоун». Для новой студии Камерини поставил картину «Кифф Тебби» {1927) по сценарию Лючиано Дориа. Фильм имел большой успех, ибо внес струю свежего воздуха в весьма консервативные методы производства. Съемки проводились на натуре во время экспедиции в Африку в нарушение обязательных рецептов работы в павильоне.
«Кифф Тебби» еще только предвещал режиссерский талант Камерини, зато его следующий фильм «Рельсы» (1929) полностью подтвердил надежды, возлагаемые на этого молодого кинематографиста. В «Рельсах» Камерини обратился к судьбе молодой пары, странствующей по Италии в поисках работы. Действие фильма происходит в переполненных вагонах третьего класса, в задымленных железнодорожных вокзалах, на маленьких провинциальных станциях. В «Рельсах» мы не только находим романтическую поэзию путешествий и поездов, но и, что гораздо важнее, частичку подлинной, народной Италии. Ту же самую атмосферу провинции мы найдем в период расцвета итальянского неореализма в фильмах Де Сика, который свои первые шаги в кино сделал как актер в комедиях Камерини 30-х годов.
В год, когда на экраны вышли «Рельсы» Камерини, дебютировал и Алессандро Блазетти. Блазетти с 1926 года вел на страницах прессы (он был редактором двух киножурналов) жестокую борьбу с диктатором итальянского кино Питталугой, обвиняя его в сознательной ликвидации национального производства. Блазетти требовал большей смелости в выборе тем и в использовании художественных средств. Он призывал режиссеров создавать фильмы, тесно связанные с жизнью, а не обращаться
==292
к салонным темам, не уходить в историю, понимаемую как оперное зрелище.
При поддержке состоятельных друзей Блазетти в 1928 году основал независимую студию «Аугуста». Год спустя он выступил со своим первым программным фильмом «Солнце» (1929). Сценарий написал режиссер в сотрудничестве с Альдо Вергано. «Солнце» было посвящено теме осушения понтийских болот, и поэтому фильм получил благословение фашистского режима.
Но Блазетти отнюдь не намеревался создать картину, рекламирующую общественные работы, начатые по инициативе Муссолини, он хотел показать борьбу человека с силами природы. Истоки создания «Солнца» следует искать не в официальной пропаганде режима, а в творческих достижениях советских классиков кино — Эйзенштейна и Довженко. Молодой авангардист стремился перенести опыт великих советских режиссеров на итальянскую почву и потому выбрал такой объект съемок, в котором концентрировался наибольший запас динамики и пафоса. Несомненно, «Солнце» обозначило перелом в итальянском кино, доказав, что молодые режиссеры могут вырваться из плена консервативных эстетических норм. В своей дальнейшей творческой деятельности Блазетти, возведенный в сан официального барда фашистского кино, совершал немало ошибок и не раз предавал идеалы своей молодости. Однако в конце второй мировой войны он словно вспомнил о реалистическом начале и снял очаровательную комедию «Четыре шага в облаках» (1943).
Таким образом, последние годы немого периода в итальянской кинематографии предвещали возможность преодоления кризиса и одновременно стали годами дебюта двух молодых режиссеров-реалистов, которые после второй мировой войны послужили связующим звеном между новым итальянским кино и довоенными традициями реалистического кинемагографа.
Положение в английском кино после войны не многим отличалось от состояния кино итальянского, с той лишь разницей, что проникновение американских фильмов ощущалось здесь гораздо сильнее и началось на несколько лет раньше. В 1926 году газеты даже писали о ликвидации английского кинопроизводства, ибо большая часть ателье была закрыта, а на экранах безраздельно господствовали голливудские ленты. Однако под нажимом общественного мнения консервативное правительство было вынуждено внести в парламент законопроект о квоте, который был утвержден палатой общин в 1927 году и вступил в силу с 1 января 1929 года. Закон определял обязательную процентную норму английских фильмов, которые должны были демонстрироваться в театрах и распространяться прокатными конторами.
Обязательная квота устанавливалась отдельно для кинотеатров и для прокатных контор. Причем в обоих случаях цифры
==293
были довольно незначительные, колеблясь от 7,5% в 1929 году до 25 °о в 1934 году. Закон о квоте еще до его утверждения подвергся яростным нападкам владельцев кинотеатров и предпринимателей, связанных с Америкой. Они опасались американских экономических репрессий, а консервативный британский министр торговли даже рекомендовал делегации английских кинопромышленников любым путем договориться с Америкой. Но соглашения с Голливудом можно было добиться только на основе безусловной капитуляции, а этому противились английские зрители, желавшие хотя бы время от времени смотреть национальные фильмы. Введение закона о квоте, хотя и не принесло, как можно было ожидать, решительного улучшения, все же заставило английских продюсеров взяться за производство^собственных картин. Но даже самый совершенный закон, создающий наилучшие условия для национального кинопроизводства, не мог помочь преодолеть кризис, уже давно переживаемый английским киноискусством. Количество создаваемых фильмов могло, правда, привести и к улучшению их качества, но, для того чтобы наступил настоящий перелом, следовало прежде всего в корне пересмотреть отношение к кино, отбросить устаревшие схемы.
«Английское кино,— писал в 1929 году режиссер и критик Пол Рота,— основано на прогнившем фундаменте. Оно ищет себе опоры в создании фальшивого престижа, в безответственной и льстивой болтовне журналистов и в доброй воле публики. Фальшивые восхваления и закон о квоте привели к тому, что наше кино до сих пор не нашло своих национальных черт. В наших фильмах отсутствует честная мысль, и их единственная цель — это подражание лентам других стран».
Поль Рота дал неприятный, но верный и добросовестный анализ положения. Смертельной опасностью для английского кино был его космополитизм, стремление создать лондонский Голливуд, где снимались бы картины с участием международных звезд для международных рынков.
По этим принципам снимались дорогостоящие фильмы типа «Мадам Помпадур» с Дороги Гиш в главной роли или многочисленные англонемецкие ленты, снимаемые чаще всего в берлинских и мюнхенских ателье.
Английских фильмов, не только по названию, но и по духу, было чрезвычайно мало. Время от времени появлялись непритязательные и дешевые комедии, действие которых происходило в среде лондонских кокни или текстильщиков Ланкашира, но картины эти не имели художественной ценности и не делали чести ни продюсерам, ни постановщикам и актерам. Может быть, только одна актриса — Бетти Бальфур в ролях девушек из народа сумела показать на экране кусочек подлинной Англии.
С 1926 года во главу английских продюсеров выдвинулся Джон Максуэлл, основатель студии «Бритиш интернешнл пикчерс», имевшей прекрасно оснащенные павильоны в Эльстри, недалеко от Лондона. Студия
==294
Максуэлла выпускала наиболее космополитические боевики. Главными конкурентами Максуэлла были: Майкл Бэлкон, продюсер студии «Гейнзборо пикчерс», и Брюс Вулф, руководитель «Бритиш инстракшнл», фирмы, которая прославилась серией документальных военных фильмов о знаменитых сражениях 1914—1918 годов. Как Бэлкон, так и Вулф противопоставляли звездам Максуэлла таланты молодых режиссеров.
Примерно в одно время дебютировали у Вулфа — Антони Асквит, а у Бэлкона — Альфред Хичкок. Антони Асквит (род. 1902) — сын одного из лидеров либеральной партии лорда Асквита, был представителем аристократических и интеллектуальных кругов. Вулф сознательно открывал двери своей студии перед молодыми людьми из Оксфорда и Кембриджа. Молодой Асквит изучал кинопроизводство в Голливуде, неоднократно бывал в Париже и по образцу французских киноклубов основал в 1925 году первый лондонский киноклуб. Под руководством опытного режиссера Брэмбла Асквит в 1927 году дебютировал фильмом «Падающие звезды» (1927).
«Падающие звезды», а также и последующие его фильмы: «Подземка» (1928) и «Домик в Дартмуре» (1929) — выдвинули Асквита в первые ряды английских кинорежиссеров.
Он доказал, что можно интересно и правдиво показывать английскую жизнь. В «Падающих звездах» великолепно передана атмосфера английской киностудии, в «Подземке» использованы подлинные интерьеры лондонского метро, наконец, в «Домике в Дартмуре» убедительно воссоздана жизнь провинциального городка в графстве Девоншир.
Асквит не сумел в период немого кино в полной мере развить свой талант и выработать оригинальный кинематографический стиль. Все же на бледном фоне современного ему английского кинопроизводства он выделялся пониманием изобразительных возможностей кино и, как справедливо заметил английский кинодеятель Эдгар Энстей, был одним из первых кинорежиссеров, правильно оценивших огромное значение для киноискусства традиции английской литературы, всеми своими корнями сросшейся с народной средой.
Альфред Хичкок (род. 1899) происходил из мелкобуржуазной среды. Сын лондонского торговца, он так и не закончил высшего учебного заведения. С 1920 года он начал работу в кино, сначала ассистентом режиссера, декоратором и автором титров... Первый самостоятельный фильм Хичкок поставил в 1926 году. Это была «международная» постановка «Сад удовольствий», фильм, снятый в мюнхенском ателье при участии американских и немецких актеров.
Славу принес Хичкоку лишь его третий фильм «Жилец» (1926), поставленный по известному роману Беллок Лоундес о таинственном убийце — душителе молодых девушек. Хичкок сумел из банального литературного первоисточника сделать необычайно интересный фильм,
==295
держащий зрителя в напряжении (так называемый «триллер»). Профессиональная кинопресса с восторгом писала о «Жильце», подчеркивая, что его главное достоинство — это темп. Нет ни одной сцены, о которой можно было бы сказать, что она на метр длиннее или короче, чем следует. Кроме того, в «Жильце» точно схвачена атмосфера лондонских туманов и правдиво показаны единственные в своем роде жители столицы Англии — кокни. Хичкок сдал, таким образом, двойной экзамен: как профессиональный режиссер и как тонкий наблюдатель изображаемой среды.
Следующие фильмы Хичкока — это экранизация пьес Айвора Новелло «Вниз с холма» (1927) и Ноэля Коуарда «Легкие нравы» (1927). Это были слабые работы. Гораздо более удачным оказался фильм, поставленный Хичкоком для Максуэлла, «Ринг» (1928). Сценарий о жизни профессиональных боксеров, выступающих на провинциальных ярмарках, написал сам Хичкок. Критика восхищалась не только оригинальным способом повествования, но прежде всего верной и правдивой обрисовкой среды, показанной с большой тщательностью и богатством деталей. Киногазета «Биоскоп» назвала «Ринг» лучшим английским фильмом, поставленным до сих пор. Альфред Хичкок решительно выдвинулся на первое место среди английских кинорежиссеров.
Немалый вклад в успех Хичкока внес Айвор Монтегю, главный монтажер студии «Гейнсборо пикчерс». Подобно Асквиту, Монтегю происходит из английской аристократии. Отец его, лорд Суэйтлинг, был директором банковской фирмы «Сэмюель Монтегю и К°». Айвор Монтегю монтировал фильмы Хичкока «Жилец» и экранизации пьес Новелло и Коуарда. Кроме руководства монтажным отделом студии «Гейнсборо», он занимался и режиссурой. В 1929 году Монтегю перенес на экран три новеллы Герберта Уэллса: «Мечты наяву», «Голубые бутылки» и «Лекарство», резко критикующие мораль так называемого светского общества. Во всех трех новеллах главные роли исполняла замечательная характерная актриса Эльза Ланчестер; вместе с ней впервые пробовал свои силы в кино ее муж, впоследствии великий актер театра и кино Чарлз Лоутон. В конце двадцатых годов Монтегю, ставший в наше время видным деятелем Движения сторонников мира, находился на левом, прогрессивном крыле английских режиссеров. Он перевел на английский язык труды Пудовкина и основал Федерацию рабочих кинообществ. Федерация поставила перед собой задачу объединения всех тех, кто интересуется производством и прокатом фильмов, представляющих ценность для рабочего класса, и пропагандой такого рода фильмов среди рабочего класса Великобритании и Ирландии. В правление федерации наряду с Айвором Монтегю вошли в 1929 году, в частности, Гарри Поллит и Уильям Галахер.
Таким образом, в конце двадцатых годов в английском кино появилась группа молодых художников, для которых создание фильмов было не только источником заработка, но жизненным делом. Антони Асквит
==296
и Альфред Хичкок стали в тридцатые годы ведущими представителями английского художественного кинематографа. Айвор Монтегю и Джон Грирсон, который в самом конце немого периода дебютировал замечательным документальным фильмом «Рыбачьи суда» (1929), возглавили движение английских документалистов.
Джон Грирсон получил степень магистра философии при университете в Глазго и после нескольких лет работы в Америке вернулся в 1928 году в Англию, чтобы заняться производством документальных фильмов, финансируемых Имперской торговой палатой.
«Рыбачьи суда»— это первый английский документальный фильм новой школы, расцвет которой приходится на тридцатые годы. В фильме необычно и интересно показан не только труд рыбаков, промышляющих сельдь, но и жизнь, быт определенной социальной группы. Стиль «Рыбачьих судов» во многом сложился под влиянием советского кино как в съемочной технике, так и в монтаже. Советское кино научило Грнрсона и его соратников тому, что он назвал «творческой интерпретацией действительности». Впервые в английском кино героем драмы стал рабочий человек и его тяжелый, требующий мужества и самопожертвования труд.
После долгих лет инерции и застоя в английском кино началось интеллектуальное и художественное движение, которое в звуковом периоде позволило британской кинематографии сыграть существенную роль в развитии киноискусства.
На Западе Европы две страны не раз предпринимали попытки начать производство фильмов, но из-за узости внутреннего рынка и сильной иностранной конкуренции попытки эти кончались неудачей. Я имею в виду Бельгию и Голландию. В период немого кино ни та, ни другая страна не могли похвастаться серьезными художественными достижениями. Бельгийские и голландские художественные фильмы в подавляющем большинстве своем были коммерческими.
В конце двадцатых годов под влиянием экспериментов французского и отчасти немецкого авангарда как в Бельгии, так и в Голландии появились короткометражки, отличающиеся высокими художественными достоинствами.
Их создатели — молодые энтузиасты, стремившиеся освободить национальное кино от коммерческого духа.
Представителем авангарда в Бельгии был журналист Шарль Декейкелер, кинокритик брюссельской газеты «Дернье нувель». В 1927 году он снял поэтический фильм о боксерском матче «Бокс». Режиссер создал кинематографический эквивалент стихотворения Поля Бери, описавшего напряженную атмосферу схватки на ринге. Особенностью фильма было контрастное использование позитивных и негативных кадров для достижения драматического эффекта. Некоторые усматривали в «Боксе» влияние репортажного стиля Руттмана из «Симфонии большого города».
==297
В Голландии в 1928 году фильмом о стальном мосте, соединяющем берега Мёзы, дебютировал Йорис Ивенс (род. 1898). «Мост» во многих отношениях напоминал этюд Рене Клера об Эйфелевой башне: оба фильма отражали влюбленность в стальные конструкции, поэтически воспевали новую архитектуру. В картине Ивенса, однако, сильнее звучал гуманистический подтекст: режиссер подчеркивал функцию моста, связывающего берега реки.
В следующем фильме «Дождь» (1929) голландский режиссер показал нам жизнь Амстердама в дождливый день. Дождь, как писала голландская пресса, не просто атмосферное явление, это специфический элемент наших городов, неотъемлемая часть их духовного климата и пейзажа. С восторгом восприняли «Дождь» в Советском Союзе, когда в 1932 году автор показывал свои фильмы в Москве. В «Известиях» появилась статья, подчеркивающая живописные достоинства фильма, наблюдательность автора, его музыкальность, о чем свидетельствовал ритмический монтаж.
Последней работой Ивенса в немой период была художественная картина «Прибой» (1929, вместе с М. X. Френкеном). Это экранизация новеллы о жизни рыбаков в маленьком приморском поселке. Сюжет фильма — довольно банальная история рыбака, которого бросила девушка. Голландский критик Пит Клопперс, считая этот фильм неудачей режиссера, подчеркивал вместе с тем фотографические, а вернее, документальные достоинства картины.
Там, где Ивенс переставал заниматься актерами и сюжетом и показывал рыбацкий поселок, надвигающийся шторм или ярмарочное веселье, он добивался успеха. Но не только документализм составлял достоинство фильма. Ведь, кроме банальной любовной истории, там сказана правда о безработице, об экономических конфликтах, приведших к любовным недоразумениям. Рыбак сначала потерял работу, а потом девушку...
Йорис Ивенс начинал с позиций, близких формалистическому авангарду («Мост»). Но в дальнейшем он приблизился к социальным фильмам, борющимся за улучшение человеческой жизни. Ивенс был основателем Лиги кино, которая приглашала на доклады в Амстердам Эйзенштейна и Пудовкина. В немом кино Ивенс доказал свой талант, полностью проявившийся, однако, лишь в звуковом периоде. Тогда же окончательно сформировалась идейно-творческая позиция режиссера, который в интервью газете «Де Рооде ван», фламандскому органу Коммунистической партии Бельгии, заявил: «Наша цель — создание фильмов, которые могли бы служить оружием в классовой борьбе».
Из стран Центральной Европы, которые еще до первой мировой войны начали регулярное производство, одна только Чехия добилась определенных успехов в отношении качества создаваемых фильмов. Возникновение чешского кино относится к 1898 году, когда в Праге по случаю
==298
строительной выставки демонстрировались короткометражные фильмы, снятые архитектором Криженецким и популярным комиком и певцом Иозефом Швабом-Малостранским. Регулярное производство фильмов начала в 1910 году студия «Кинофа». К ее достижениям следует отнести документальный фильм «Свентоянские вихри», который на международной выставке в Вене в 1912 году получил премию за художественную фотографию. Студия «Асум», в фильмах которой выступала известная театральная актриса Андуля Седлачкова, экранизировала в 1913 году оперу Сметаны «Проданная невеста» (режиссер А. Фенцл). Интересным политическим документом был репортаж студии «Лидо-Био» об антивоенной демонстрации, организованной чешскими социал-демократами 17 ноября 1912 года в Праге во время болгаро-турецкой войны.
В период 1912—1918 годов в связи с трудностями ввоза иностранных фильмов бурно развивалось национальное производство. После создания независимого чехословацкого государства (28 октября 1918 года) стали возникать многочисленные студии, а в 1921 году в Праге построили оборудованные по последнему слову техники павильоны общества «А—Б». Художественных фильмов выпускали 20—35 в год, за исключением периода экономического кризиса, когда производство упало до восьми фильмов в год.
Характерная черта чехословацкой кинематографии — ее прочная связь с литературой и театром. Такая зависимость кино от старших искусств поначалу сдерживала создание специфических художественных форм, но, с другой стороны, обеспечивала подлинно национальный характер кинопроизводства. В двадцатые годы были экранизированы многие произведения классиков (например, «Люцерна», 1925, по Алоизу Ирасеку) и выдающихся современных писателей Ярослава Гашека (три фильма о Швейке) и Вожены Немцовой («Бабушка», 1921, и «Горная деревушка», 1929). Карел Чапек написал оригинальный сценарий для фильмасказки «Золотой ключик» (1921). Конечно, кинематограф обращался и к популярной литературе, как, например, к повестям Игнаца Германа. Комедия «Отец Канделик и жених Вейвара» (1926), поставленная режиссером Карелом Антоном по повести Германа, стала началом серии фильмов о жизни пражской мелкой буржуазии.
Комедийно-сентиментальную атмосферу этих фильмов, пользовавшихся огромной популярностью, чешский историк кино Карел Смрж назвал «канделиковщиной», по имени главного героя. Образ веселого пана Канделика в великолепном исполнении актера Теодора Пиштека стал почти таким же воплощением национальных черт характера, как и бравый солдат Швейк, с той только разницей — ив этом заключалось опасность «канделиковщины»,— что Канделик был представителем соглашательской и сытой мелкой буржуазии, а Швейк символизировал народную мудрость, подрывающую установленный общественный порядок.
==299
Верная в основе своей тенденция тесной связи с традициями литературы и искусства не всегда последовательно воплощалась на практике.
Часто имя писателя служило только предлогом для привлечения публики к кассам кинотеатров. А по цензурным соображениям острие социальной сатиры притуплялось. Такова была судьба фильмов о Швейке: «Швейк в русском плену» (1926, режиссер С. Иннеман), «Швейк на фронте» (1926, режиссер К. Ламач) и «Швейк в отставке» (1927, режиссер Г. Махатый). Во всех трех фильмах в главной роли выступил превосходный театральный актер Карел Нолл.
Одной из лучших картин, созданных по литературным первоисточникам, была экранизация психологического романа Йозефа Гайс-Тынецкого «Батальон» (1926). Постановщиком был Пшемысл Пражский, а главную роль военного врача играл Карел Хаслер. После 1926 года, как и в других европейских странах, в Чехословакии делались попытки противостоять проникновению американских фильмов при помощи так называемой международной продукции. Фильмы снимались при участии французских, австрийских, немецких капиталистов. Естественно, этим определялся как выбор тем, так и участие актеров.
Типичным представителем космополитического направления в чешском кино был Густав Махатый, дебютировавший в 1926 году экранизацией «Крейцеровой сонаты» Льва Толстого. Режиссер перенес действие в современность и в неопределенную среду большого города. Фильм отличался режиссерским профессионализмом, стройной драматургической конструкцией, но в нем абсолютно отсутствовали атмосфера и дух литературного первоисточника.
Махатый поставил также в 1929 году по собственному сценарию психологическую драму «Эротикой». Картина не имеет ничего общего с одноименным фильмом Стиллера, зато в истории соблазнения дочери железнодорожника городским ловеласом нетрудно обнаружить связь с пушкинским «Станционным смотрителем». Махатый публично заявил, что кинорежиссеру не нужен сценарий. Но справедливо писал критик немецкой газеты «Фильм курир», «Эротикон» — лучшее доказательство ошибочности этого положения. Если бы у Махатого был хороший сценарий, он не растерял бы свой несомненный талант в формалистических выкрутасах».
«Эротикой»— яркий пример кинематографического эклектизма, смеси всевозможных стилей и приемов. Сцены в поезде смонтированы «на русский манер»— короткими кусками. В камерных сценах образцом для режиссера было «Варьете» Дюпона (движущаяся камера), а актеры снимались оператором «сладенько»— по-голливудски или в немецкой манере Эриха Поммера. Космополитический эклектизм формы дополнила международная актерская группа: швед Олаф Фьорд, югославка Ита Рина, итальянец Луиджи Сервенти и немка Шарлотта Суза.
К оглавлению
==300
Космополитические тенденции вызывали естественное сопротивление общественности. Одной из пропагандисток национального киноискусства была женщина-режиссер, известная под псевдонимом Зет Молас (актриса Здена Смолова). Зет Молас опубликовала в 1928 году манифест, в котором в связи с постановкой фильма «Дети мельника» призывала к использованию чешского пейзажа и воссозданию на экране жизни трудолюбивого и честного чешского народа. Призывы такого рода раздавались все чаще и заставляли некоторых дельцов и режиссеров отказаться от «международных рецептов». Все же фильмов с ярко выраженными народными и национальными чертами было немного, к их числу можно отнести картину режиссера М. Крнанского «Горная деревушка» (1929) и два произведения молодого режиссера Мартина Фрича: «Отец Войцех» (1929) и «Органист собора святого Витта» (1929).
Большинство режиссеров во главе с популярным Ламачем предпочитали идти в фарватере космополитической продукции. Комедии с Анной Ондраковой, великолепной комедийной актрисой, называемой «Бестером Китоном в юбке», демонстрировались во всех европейских странах. В них не было никаких национальных признаков, они сознательно показывали на экране богатых бездельников, живущих в каком-то неопределенном большом городе, В самом конце двадцатых годов в пражском ателье был создан смелый реалистический фильм о жизни и трагической смерти бедной прачки. Автором сценария и режиссером был судетский немец Карл Юнганс, который при помощи нескольких друзей, в частности актера Пиштека, собрал необходимые для съемки деньги.
В период работы над фильмом несколько раз приходилось собирать дополнительные суммы, и лишь в 1930 году фильм «Такова жизнь» вышел на экраны, вызвав настоящую сенсацию. Картина Юнганса во многом родственна немецкой школе конца двадцатых годов, фильмам Цилле, как, например, «Путешествие матушки Краузе за счастьем». Гнетущая атмосфера, безысходность, натурализм в обрисовке среды бедняков; рядовому событию из газетной хроники (смерть прачки) Юнганс придал форму классической трагедии, создав запоминающиеся образы и сплетая события в неумолимую цепь причин и следствий. В этом фильме также принимали участие актеры раеных национальностей: например, прачку играла Вера Барановская. Однако режиссеру удалось сохранить пражский колорит пролетарских жилищ и рабочей пивной, где родственники покойной прачки справляют поминки. «Такова жизнь»— это лебединая песня чехословацкого немого кино и одновременно доказательство творческой зрелости пражской кинопродукции. Фильм Юнганса свидетельствовал о том, что даже в неблагоприятных условиях космополитической моды возможны удачи на пути создания честных и серьезных произведений, не рассчитанных на кассу. В звуковом периоде чехословацкое кино сможет обратиться к реалисти-
==301
ческим традициям — привилегия, которой могли похвастаться далеко не все европейские кинематографии.
Совершенно иначе складывались судьбы венгерской кинематографии. Довоенный период и годы войны предвещали бурное развитие венгерского кино. В Будапеште работали многочисленные киноателье, выпускавшие довольно много фильмов. Экранизировали классиков венгерской литературы: Петефи, Катона и Арани. Драматург Ференц Мольнар писал оригинальные сценарии кинокомедий и помогал экранизировать свои пьесы.
После поражения в первой мировой войне Венгрия стала республикой. Сначала (октябрь 1918 года) власть находилась в руках либеральной буржуазии. Весной 1919 года власть перешла к коалиции коммунистов и социал-демократов: в течение пяти месяцев Венгрия была Республикой Советов.
Полгода — слишком небольшой период, чтобы новая форма правления могла найти свое отражение в кино. Кроме еженедельной хроники «Красный репортер» (26 выпусков), в Будапештском архиве сохранился только один короткий, трехсотметровый, художественный фильм, героем которого был солдат-революционер *.
Практические результаты были невелики, зато очень интересны решения, принятые народным правительством Венгрии по вопросу о будущей организации кинематографии. Народным комиссаром по делам кино назначили Стефана Радо. По его предложению правительство издало 26 апреля 1919 года декрет о национализации всех кинопредприятий. Был создан Центральный совет национализированных кинопредприятий и утвержден производственный план студий, предусматривающий экранизацию романов венгерских писателей и популярных народных оперетт. В плане имелись также рекомендации создания фильмов по произведениям иностранных авторов: Золя, Ибсена, Толстого, Гюго, Гоголя, Гауптмана, Шоу, Диккенса и Бьёрнсона. Все это свидетельствовало о серьезных намерениях руководителей венгерской кинематографии, которые хотели превратить кинозрелище в средство пропаганды классики мировой литературы.
Осуществлению этих планов помешала победа реакции и падение Советской республики. Правительство адмирала Хорти немало сделало для постепенной ликвидации венгерского кино. Производство художественных фильмов почти совершенно прекратилось, зато появился специфический суррогат кинопредставлений — соединение театрального зрелища и кино. Часть пьесы разыгрывалась на сцене, а дополнением ее был короткий двух- или трехчастевый фильм. Таким способом поста-
Ж. С а д у л ь, цит. изд., т. 3, стр. 448.
==302
вили в Будапеште популярные оперетты: «Граф Люксембург» и «Сильву». Такое положение не могло удовлетворить кинематографистов, которые видели в кино самостоятельную область творческой деятельности. Началась массовая эмиграция режиссеров и актеров кино. На венских, берлинских и голливудских студиях появились венгры: режиссеры — Александр Корда, Геза фон Больвари, Михай Кертес (в Америке Майкл Кертиц); актеры — Вильма Банки и Бела Лугоши.
Вместе с другими уехал на чужбину Бела Балаш, молодой писатель и работник венгерского революционного министерства культуры.
Бела Балаш (1884—1949) поселился сначала в Вене, ведя в газете «Дер таг» отдел кино. Резкие суждения, высказываемые им о плохих фильмах, привели к тому, что одна из австрийских прокатных контор подала на Балаша в суд. Балаш выиграл дело, отстояв свое право на критику. Решение суда, отказавшего прокатчикам в иске, признавало тем самым фильм произведением искусства, а не товаром, охраняемым законами о нечестной конкуренции. Но победа Балаша оказалась пирровой, прокатная фирма, не сумев побороть строптивого критика, просто купила газету, где он работал. И независимый рецензент стал безработным публицистом.
В Вене Бела Балаш опубликовал в 1924 году на немецком языке свою первую теоретическую книгу о киноискусстве «Видимый человек, или Культура кино». Это первая в мире попытка систематизации эстетических проблем кино, попытка, относящаяся к тому времени, когда ставился под сомнение сам факт принадлежности кино к искусству. Поэтому Балаш назвал свою книгу «оценкой, мечтой и пророчеством великих возможностей искусства, которое только еще рождается». Заслуги Балаша в развитии киноискусства огромны, и прежде всего как теоретика. В отличие от других пионеров кино — Кулешова, Деллюка, Пудовкина или Эйзенштейна — для Балаша главной целью была научная и публицистическая работа, а практика создания сценариев и фильмов — побочным занятием. Вскоре после издания книги Балаш переехал в Берлин и там написал несколько сценариев, поставленных разными режиссерами. Ни один из них, за исключением последнего — экранизации новеллы Стефана Цвейга «Письмо незнакомки» (фильм «Под наркозом», 1929, режиссер Альфред Абель),— не принес славы замечательному теоретику. Только работая над новеллой Цвейга, Балаш сумел преобразить язык слов в прекрасный язык кинематографических образов *.
Влияние Балаша на формирование эстетики кино в странах Центральной Европы было очень велико.
Молодые немецкие, чешские, поль-
Другие сценарии Балаша: «Приключения десятимарочной кредитки» (1926), «Гранд отель» (1927), «I + 1 + З» (1927), «Голубой свет» (1932), «Карл Бруннер» (1938, в СССР — сценарий и постановка), «Где-то в Европе» (1948, в Венгрии).
==303
ские и итальянские критики учились кинематографической азбуке по книгам Балаша. Его произведения оказывали ценную помощь и практическим работникам кино. Спустя семь лет после выхода «Видимого человека», уже в период победы звука, появилась вторая теоретическая работа Балаша «Дух фильмы» (1930). В своей новой книге он развивал положения, выдвинутые в «Видимом человеке», и в то же время указывал на эстетическое единство старого — немого и новогого — верящего кинематографа.
Первую попытку создания польского фильма предпринял в 1907 году, пользуясь пребыванием в Варшаве оператора фирмы «Пате» Мейера, совладелец варшавского кинотеатра «Оаза» Ясинский. Мейер снял на улицах Варшавы короткую комедийную ленту с участием популярного уже тогда театрального актера Антони Фертнера под названием «Антоша первый раз в Варшаве».
Инициатива Ясинского была поддержана другими владельцами кинотеатров и прокатных контор. Александр Герц, основатель фирмы «Сфинкс», приступил к постановке фильмов. Первой была сделана картина из жизни варшавского люмпен-пролетариата «Антек Клавиш — герой Повисля», в котором отчетливо проявились традиции бульварной литературы.
Из ранних польских фильмов ничего не сохранилось, и поэтому оценивать их можно лишь на основе материалов, опубликованных в в прессе,— немногочисленных рецензий, читательских отзывов, рекламных объявлений. Как Александр Герц, так и его конкуренты опирались преимущественно на иностранный опыт, прежде всего французский. До 1914 года были созданы фильмы по известным романам и пьесам, в частности «История греха» Жеромского, «Рисунки углем» Сенкевича (а также начатый, но не законченный «Потоп»), «Судьи» Выспянского, «Меир Эзофович» Ожешко.
Конечно, все эти экранизации грешили иллюстративностью.
«Курьер Варшавский» писал в 1911 году, что « История греха» состоит из хаотического нагромождения сцен, лишенных логической связи и бесконечно наивных. Даже учитывая излишнюю остроту критики и нелюбовь газеты к Жеромскому, следует, однако, думать, что композиция фильма действительно имела упомянутые недостатки.
Конечно, при этих экранизациях искажался не только сюжет произведения, но и его дух. Показать обществу трагедию Евы Побратимской из «Судей» Выспянского было благородным намерением, но вместить многотомный психологический роман в рамки часового фильма значило неизбежно вульгаризировать литературный первоисточник. Та же судьба постигла Ожешко, когда за экранизацию «Меира Эзофовича» взялся Остойя-Сульницкий. Здесь, однако, причиной искажений была не только слабая режиссура, но и сознательный замысел постановщика, которому
==304
конфликт семей Тодросув и Эзофовичей дал повод для антисемитской пропаганды. Так благородное гуманистическое литературное произведение превратилось в реакционный кинопамфлет. Эти два примера характерны для уровня тогдашних экранизаций. Обращаясь к сокровищнице национальной литературы, продюсеры руководствовались либо коммерческими, либо политическими целями.
В оригинальных сценариях делались попытки создания социальнобытовых фильмов, рассказывающих как о жизни «высших сфер», так и среды «варшавских апашей».
Варшавская актерская среда не бойкотировала кино, а, наоборот, активно участвовала в создании фильмов. Пожалуй, не было ни одного известного актера, который не попытал бы своих сил в кино. Среди исполнителей главных ролей в первых польских фильмах мы находим Дулембянку, Кнаке-Завадского, Зельверовича, Фертнера, Щавинского и многих других. Участие театральных актеров в фильмах объясняет до некоторой степени особое пристрастие польской кинематографии к театральности.
Война болезненно сказалась на деятельности польской кинематографии, в особенности в период отступления русской армии и эвакуации в Россию части польского населения.
Вместе с нею уехала большая группа режиссеров и актеров сцены и экрана.
Несмотря на трудности военного времени, производство фильмов в Варшаве продолжалось. В 1914 году было выпущено 13 фильмов, а в следующем году количество художественных картин уменьшилось до 6. Темой последнего фильма, созданного при русской администрации, «Шпион» (1915) были немецкие жестокости в Калише. Премьера фильма состоялась в начале августа 1915 года, а спустя несколько дней Варшаву заняли немецкие войска.
Как уже говорилось, в годы войны резко уменьшилось количество экранизаций. В двух случаях автором экранизируемых произведений была Габриель Запольская —«Сезонная любовь» (1918) и «Царевич» (1919). Третья экранизация —«Ашантка» Пежинского. Все остальные фильмы были поставлены по оригинальным сценариям преимущественно анонимных авторов. В нескольких случаях сюжет фильма основывался на подлинных событиях. Так, например, в картине «Варшавская охранка и ее тайны» (1916) изображена драматическая история, имевшая место в дейсгяительности: убийство начальника полиции полковника Заварзина молодой полькой. Фильм «Дело Бартенева» (1917) поставлен по материалам судебного процесса 1899 года, когда актриса Мария Висновская была убита корнетом царской армии. В «Царской фаворитке» (1918) показан роман Николая II с польской танцовщицей Матильдой Кшесинской.
События большинства фильмов происходили то в высшем обществе, то в среде варшавских уголовников. В этих салонно-притонных драмах
20
|
—5 |
|
==305 |
с завлекательными названиями («Бестия», «Арабелла», «Тайна отеля») выступала первая польская кинозвезда Пола Негри.
Пола Негри (настоящее имя Аполлония Халупец) дебютировала в кино в 1914 году в фильме «Невольница чувсгв». Сценарий написал Казимеж Гулевич, опекавший молодую танцовщицу и актрису, которая покорила прессу и публику своими выступлениями в пантомиме «Сумурун», а также в «Немой из Портичи» Обера. «Невольница чувств» была до какой-то степени автобиографией исполнительницы главной роли — бедной дочери слесаря, которая добилась всемирного успеха.
Впервые в польском кино появилась актриса, способная при помощи мимики и жеста выразить духовные переживания. Несомненно, в исполнении Полы Негри можно обнаружить некоторую истеричность, но вместе с тем это была, несомненно, талантливая актриса. Не случайно русская реклама «Невольницы чувств» представляла публике Полу Негри как «славянскую Асту Нильсен».
Пола Негри не могла, конечно, раскрыть весь свой талант в польских фильмах с неинтересными сценариями, слабой режиссурой и примитивной техникой. Не следует поэтому удивляться, что молодая актриса, воспользовавшись первой же возможностью, подписала в 1917 году контракт с немецкой студией «Сатурн-фильм» в Берлине. Только под руководством режиссера Любича Пола Негри раскрыла свое дарование и заняла ведущее место среди звезд немецкого кино.
Казалось, образование после войны независимого польского государства создаст для кинематографии благоприятные условия развития. Значительно увеличился внутренний рынок, количество кинотеатров возросло до 900, экспортные перспективы также выглядели в розовом свете, ибо теперь не требовалось посредничества немецких фирм. Польша могла выступать за границей как полноправный самостоятельный партнер. Однако действительность нанесла сокрушительный удар всем этим оптимистическим предположениям и расчетам. Буржуазное правительство Польши отнюдь не собиралось заниматься вопросами искусства, оно не поняло политического значения кино. Мероприятия правительства в этой области ограничились введением предварительной цензуры, осуществление которой было поручено отделу печати министерства внутренних дел. В этих условиях одна только студия «Сфинкс», имевшая большой опыт и оснащенные техникой павильоны, могла продолжать производственную деятельность. Фирменный знак «Сфинкса» был хорошо известен владельцам кинотеатров. Другие студии, столь же быстро возникавшие, как и исчезавшие, имели несравненно большие трудности с прокатом своей продукции. Рынок был текуч, неустойчив: кинотеатры, прокатные конторы и съемочные ателье часто меняли своих владельцев, а широко рекламируемые фильмы с треском проваливались, что влекло за собой массовые банкротства.
Положение еще более ухудшилось в результаге
==306
инфляции и перенасыщения внутреннего рынка иностранными фильмами.
Хаос в экономике сопровождался не меньшим идейно-художественным хаосом. После 1919 года кинематографисты начали возвращаться в Польшу из России, привозя с собой образцы декадентского кино школы Ханжонкова и Ермольева. Впрочем, не только поляки, находившиеся до тех пор в России, появились в варшавских ателье. Вместе с ними хлынула волна русских белоэмигрантов. Как правило, Польша для них была только пересадочным пунктом на пути в Берлин или Париж. Но пребывание их в Варшаве беспокоило прессу. Журнал «Экран» выражал опасение, что русские актеры и режиссеры отобьют хлеб у поляков.
Студия «Сфинкс» старалась создать свой собственный стиль _ национальной сентиментальной трагедии. К классическим образцам такого рода лент относились два произведения, поставленные по сценариям Юзефа Релидзинского, — «Тайна трамвайной остановки» (1922) и «Невольница любви» (1923). В обеих картинах рецепт был одинаков: трагически-романтическая история, происходящая в знакомой обстановке варшавских улиц. Герои «Тайны трамвайной остановки» — бедная прачка, сентиментальный парикмахер и богатый граф-соблазнитель. В «Невольнице любви» любовница апаша воспылала любовью к помещику. В обоих фильмах события разыгрывались в основном на варшавских улицах, и это особенно привлекало польских зрителей, предпочитавших картины «Сфинкса» мелодрамам из иностранной жизни.
Интеллигенция презирала фильмы «Сфинкса» и не ходила на «Тайны трамвайной остановки». Мелкобуржуазная публика восторгалась «Невольницами любви» и рыдала, следя за судьбами обиженной прачки и несчастной любовницы апаша. Необразованная публика не отдавала себе отчета в примитивизме плохой литературы ц плохого кино. Наоборот, такие надписи, как: «Кто ты? Может, прохожий, а может, судьба...» — восхищали зрителей.
Мелодрамы «Сфинкса» пользовались в годы инфляции и послевоенной разрухи гораздо большим успехом, нежели фильмы, обращавшиеся к патриотическим чувствам зрителя.
Националистическая волна была довольно высока в 1920—1923 годах — в период войны с Советской Россией и непосредственно после войны, когда буржуазия пыталась направить недовольство трудящихся в русло антибольшевистской и антиеврейской политики. Пропагандистские фильмы не пользовались успехом у зрителей, поэтому в дальнейшем методы прямой агитации вышли из моды, зато в мелодрамы неизменно добавлялась националистическая начинка.
Особую репертуарную группу составляли в начале двадцатых годов комедии и фарсы, чаще всего посвященные актуальным темам — дороговизне, спекуляции, жилищным трудностям. Юмор их был до предела
20*
==307
примитивен, основан на актерском гриме или контрастном подборе исполнителей (например, толстый и худой в фильме «Медовые месяцы с препятствиями», 1924). В целом польская «комическая» механически использовала ситуации и приемы эстрады и кабаре.
На этом примитивном фоне первым проблеском кинематографичностп были фильмы режиссера Виктора Беганьского. Наиболее известен фильм Беганьского «Вампиры Варшавы» (1925). Фильм не вызвал восторга у критиков. Антони Слонимский писал, что «сильнее всего мы поражены глупостью сценария». Но при этом заявил: «Есть в фильме что-то такое, что может привлечь внимание критика». Это, правда, был плохой фильм, но все же фильм, тогда как другие продукты польского кинопроизводства нельзя даже назвать фильмами...
Парадоксально, но можно утверждать, что заслуга Беганьского заключалась в том, что он первый в Польше начал ставить плохие фильмы, тогда как его конкуренты вообще не делали фильмов. Беганьский понял, что киноповествование развивается по своим собственным законам и не для того создана фотография, позволяющая запечатлеть движение, чтобы использовать ее для регистрации театральной статики. И потому в «Вампирах Варшавы» есть сцены, в которых, как писал критик журнала «Кино для всех», бьется живой кинетический нерв.
С 1922 года экономическое положение кинематографа резко ухудшилось. Количество кинотеатров с 800—900 (точных цифр нет) снизилось до 428 в конце 1923 года.
Высокие налоги и девальвация польской марки не давали возможности владельцам кинотеатров покупать хорошие фильмы. Прокатные конторы по бросовым ценам распродавали старые примитивно сделанные фильмы, что еще более отпугивало зрителей. Такое положение привело к массовому закрытию кинотеатров. Уменьшение внутреннего рынка в свою очередь вело к свертыванию кинопроизводства. Стоит ли удивляться, что в этих условиях в 1925 году на экраны вышло только четыре новых фильма.
Картина польского кино была бы неполной, если бы мы обошли молчанием тех, кто, не принимая непосредственного участия в творческом процессе, боролся пером за изменение польского киноискусства. Такие критики, как Слонимский и Стерн, не боялись сказать правду постановщикам и продюсерам. Леон Тристан в статьях, публиковавшихся в 1922—1923 годах, знакомил читателей с теориями Деллюка и Эпштейна, утверждая вслед за ними, что тайна киноискусства — в фотогеничности. Для Тристана фотогения — это образ, внезапно появляющийся и сюль же внезапно исчезающий. Деятельность Тристана, так же как и других критиков, не оказывала, однако, влияния на творческий процесс. Не нашли отзвука и статьи самого серьезного из критиков Кароля Ижиковского, хотя в его книге «Десятая муза» можно найти немало верных суждений и точных замечаний. «Десятая муза» — единственная
==308
польская теоретическая работа по эстетике кино (изданная в 1924 году, то есть одновременно с «Видимым человеком» Балаша) — оставалась книгой неизвестной и неиспользованной.
После майского переворота 1926 года власть в Польше захватил Пилсудский. Буржуазный парламентаризм уступил место сначала замаскированному, а затем все более откровенному фашизму. Новая политическая ситуация сказалась и на кино. Посыпались заявления и декларации о важной роли кино в деле патриотического воспитания. Через несколько недель после майского переворота генерал СлавойСкладковский заявил, что «с точки зрения национальных интересов следовало бы начать большую пропагандистскую кампанию, чтобы массы осознали величие нашей страны...
Именно кино — это великое оружие— открывает путь к победе». Однако санационное правительство сделало для кинематографии немногим больше, нежели предыдущие буржуазные правительства.
Все же с 1926 года положение на кинорынке стало постепенно улучшаться. После ряда забастовок, проведенных владельцами кинотеатров, удалось снизить налог на зрелища (10°о вместо прежних 50). Количество кинотеатров вновь увеличилось и к апрелю 1929 года достигло 827.
В 1927—1929 годах на экранах вновь появились многочисленные экранизации классических произведений Жеромского, Реймонта, Пруса и Запольской и даже Адама Мицкевича. Сценарии писали известные литераторы, в частности Анджей Струг и Вацлав Серошевский. В тесной связи с литературой они видели путь к кинематографическому Парнасу.
В принципе это облагораживание кинематографа было явлением положительным. Сценарий — ключ к кинотворчеству, а хороший литературный первоисточник служит основой художественных достоинств сценария. Теоретически все было правильно, другое дело, как эти верные принципы воплощались в жизнь. Попытки экранизации произведений Струга — «Могила неизвестного солдата» (1927, режиссер Рышард Ордынский) и «Грешная любовь» (1929, режиссер Мечислав Кравич) — закончились полным провалом. Не многим больше повезло Жеромскому. Режиссер Генрик Шаро при помощи сценаристов Анджея Струга и Анатоля Стерна взялся за экранизацию книги «Канун весны». Задача была трудная и ответственная, особенно если учесть характер вещи и дискуссии, которые вызвало ее появление. Но Жеромский и его произведение были использованы лишь как фабричная марка для привлечения зрителей.
Подобная же судьба постигла и других писателей, чьи книги экранизировались: Запольскую («Полицмейстер Тагеев», 1929), Пруса («Плененные души», 1930) или Реймонта («Земля обетованная», 1927). Несколько иначе была сделана экранизация «Пана Тадеуша» (1928), ибо сценаристы (Анджей Струг и Фердинанд Гетель), как и режиссер Рышард
==309
Ордынский, сознательно пошли по пути иллюстративности, создавая живые картинки, сопровождаемые текстом Мицкевича.
Связь кино с литературой в результате оказалась не средством облагораживания фильмов, а всего лишь рекламным трюком для завоевания «хорошей публики».
В 1929 году положение польского кинопроизводства вновь ухудшилось. Публика, которая прежде благожелательно встречала каждый новый польский фильм, стала проявлять большую требовательность. В 1928—1929 годах ни один из польских фильмов не стал боевиком.
Что же случилось? Причин было много. Владельцы кинотеатров уже жили мыслями о будущем, устанавливали звуковую аппаратуру и неохотно прокатывали немые фильмы польского производства. С другой стороны, публика привыкла к своим фильмам, они уже не были новинкой, а повседневной пищей. К тому же появился космополитический снобизм: презрение к местным товарам, пристрастие ко всему заграничному.
Однако все эти причины не оказали бы существенного влияния, если бы польское кино создало национальный реалистический стиль и произведения, в той или иной степени связанные с действительностью. Глубокое расхождение между жизнью и сюжетами фильмов отпугивало даже самых терпеливых и наивных зрителей.
II снова стали раздаваться голоса о тематическом кризисе, о неумении брать материал из жизчи и из литературы. Само слово реализм не произносилось, но оно звучало в подтексте многих высказываний.
Вез серьезных изменений, без нового взгляда на мир и на киносценарий невозможен был перелом, невозможно создание хороших фильмов. Вот к чему, собственно, сводились упреки критиков, обвинявших режиссеров в создании фальшивого экранного образа действительности.
В этих условиях изменить положение могли только сами ки-нематографисты, которые вопреки диктатуре продюсеров подняли бы борьбу за художественный фильм. Художественный не только в формальном. профессиональном смысле, но прежде всего за фильм хвдейный, реалистически отражающий действительность. Такую борьбу начал в тридцатые годы польский киноавангард. Первые произведения Александра Форда: «Па рассвете» и «Пульс польского Манчестера» — появились еще в конце 1929 года.
Немым был и первый фильм Эугениуша Ценкальского «Путевой обходчик № 24». Но авангард заговорил в полный голос лишь в следующем десятилетии, в эпоху звукового кино. Только тогда началась настоящая борьба за польское реалистическое киноискусство.
Кино проникало в самые отдаленные уголки мира. В двадцатые годы с волшебным экраном ознакомились азиатские и африканские народы. Фильмы демонстрировались в Сиаме, на Филиппинских островах и в поселках бразильских прерий. В Аргентине не только показывали
К оглавлению
==310
картины, привезенные из Европы и Соединенных Штатов, но и снимали собственные фильмы. В Индии и в Китае также нашлись предприниматели, которые организовали киностудии. В Японии возникла мощная кинопромышленность.
То, что происходило в южноамериканских или азиатских ателье, было совершенно не известно в Европе и в Соединенных Штатах. Время от времени делались попытки ознакомить европейских зрителей с японским киноискусством в качестве экзотической приправы для снобов, но попытки эти не принесли, видимо, желаемых финансовых результатов, ибо в последующие двадцать лет их не повторяли.
Если Европа была отрезана от Японии, то в Японии, наоборот, постоянно демонстрировались европейские и американские фильмы и постановщики могли использовать иностранный опыт. В течение четверти века складывалась новая область художественного зрелища, тесно связанная с традициями национального театра и одновременно использующая достижения Голливуда, Парижа, Берлина и Москвы. Вот почему японское кино — явление единственное в своем роде и заслуживающее хотя бы краткого рассмотрения. Ибо ни в одной другой стране самое молодое из искусств не было столь тесно связано с древними театральными традициями и нигде больше не удалось создать такие специфические формы кинозрелища.
Первый японский художественный фильм был снят в 1899 году, но постоянное производство было налажено лишь около 1912 года. К этому времени действовало несколько съемочных павильонов в Токио и Киото, сложился крупный концерн «Никкацу», в стране насчитывалось несколько тысяч кинотеатров (в одном только Токио их было около 700).
В 1913 году студия «Никкацу» выпустила 155 фильмов, средняя длина которых равнялась 100 метрам.
С самого начала существования японского кино и до сего дня сложились два типа фильмов: костюмные (дзидайгэки) и современные (гендайгэки). Примерно до 1915 года преобладали фильмы на исторические темы, позднее под влиянием новой школы театральной игры и ввоза иностранных фильмов (главным образом из Голливуда) пальма первенства перешла к драмам и комедиям из современной жизни.
Дзидайгэки были связаны с традициями классического феодального японского театра. В первые годы двадцатого века режиссеры лишь механически переносили театральные представления на экран. Классический театр кабуки основан на многочисленных условностях (декораций, костюма, маски, мимики). Театр кабуки требует определенной интеллектуальной и исторической подготовки, он не для всех понятен. Актеры его объединены в замкнутую корпорацию, стоящую на страже вековых традиций, и этим прежде всего объяснялся отказ сотрудничать с кино, в котором они видели профанацию настоящего искусства.
==311
Исторические фильмы, стремясь перенести на экран классическую модель кабуки, на практике ограничивались сотрудничеством с вульгаризированным, плебейским вариантом зрелища, так называемого кацугэки (театр поединков). В кацугэки действие сводилось к фехтовальным поединкам актеров без каких-либо драматургических и психологических тонкостей. Эта упрощенная модель кабуки, лишь внешне похожая на классический театр (костюмы, самурайская среда и т. д.), послужила образцом для фильмов дзидайгэки. Актеры, игравшие в фильмах, включая и популярнейшего Оноэ Мацуносуке, также вышли из кацугэки.
Таким образом возникла новая форма народного зрелища, связанного с историческими самурайскими традициями. Сдержанный стиль игры кабуки приобрел здесь больше яркости и темперамента, в драматургии же подчеркивались приключенческие элементы, а также вмешательство сверхъестественных сил, особенно в фантастической легенде «Ниндзитсу», герой которой претерпевал волшебные метаморфозы, становясь то драконом, то львом, то рыбой, преображаясь в огонь или дождь.
В фильмах этого рода часто применялись трюковые съемки, напоминающие эксперименты современного им Мельеса.
После 1915 года ведущее место в японском кинопроизводстве заняли современные фильмы (гендайгэки). Главной причиной такой перемены. несомненно, явился процесс преобразования Японии из феодальной в крупнокапиталистическую страну. То же самое происходило и в других областях искусства, особенно в литературе и театре. Театр кабуки уступил место буржуазному театру симпа, главными героями которого были уже не самураи, а дельцы, закладывающие основы современной промышленной империи. Из театра симпа черпают фильмы гендайгэки темы и стиль актерской игры.
Одновременно началось активное использование иностранного опыта, особенно в области съемочной техники и организации производства. Из Америки возвратились режиссеры, прошедшие школу Голливуда. Режиссер Томас Курихара и оператор Генри Котани стали реформаторами японского кино. Первый из них, работавший у Инса, добился того, что режиссер стал главным автором фильма, а не (как было прежде) помощником известных актеров. Второй усовершенствовал технику съемок, и благодаря ему фотография достигла высокой степени совершенства. Третьим реформатором был Норимаса Каэрияма, который для новой студии Тенкацу поставил фильмы «Блистательная жизнь» и «Девушка с гор» (обе 1918), используя в них современный язык кино — крупные планы, наплывы и т. д. Кроме того, он отказался от театрального принципа, согласно которому женские роли играли мужчины. Впервые в фильмах Каэрияма появились женщины, сразу же завоевав огромную популярность.
==312
Названные выше режиссеры, используя голливудские образцы, перенесли на японскую почву американский опыт. Четвертый из реформаторов Каору Осанаи пришел в кино из среды «интеллектуалов», стремившихся популяризировать на родине современное европейское искусство. Осанаи был профессором западной литературы в университете и одновременно режиссером прогрессивного Свободного театра, где он ставил Ибсена, Гауптмана, Чехова, Стриндберга и других.
Этот новый театр, детище радикальной интеллигенции, противостоял как феодальному театру кабуки, так и буржуазному симпа. В 1920 году студия «Сётику» (входившая в театральный трест, распространивший поле своей деятельности и на кино) пригласила Осанаи на должность руководителя Института кино — научно-исследовательского учреждения, разрабатывавшего вопросы эстетики киноискусства и готовящего новые кадры режиссеров и операторов. В своих теоретических высказываниях Осанаи часто обращался к французской школе критиков Деллюка и Л'Эрбье, а в творческой практике испытывал влияние европейского натуралистического театра. Его фильм «Призраки на дороге» (1921) — одно из первых японских произведений киноискусства с ясной идейной позицией. Осанаи выступал против несправедливости капиталистического строя, в защиту городских бедняков, эксплуатируемых буржуазией. Фильм не имел успеха у зрителей: он был слишком театрален по постановке.
Интерес «интеллектуалов» к кино, влияние американского кинематографа на формирование языка кино и появление подлинных художников — все это были несомненные признаки больших перемен, происходивших в японском кино в начале двадцатых годов. Экономическая конъюнктура благоприятствовала японцам как внутри страны, так и за ее пределами — в Азии, на островах Океании, в Южной Америке. Росла сеть кинотеатров, как грибы после дождя появлялись новые студии, модернизировались старые ателье.
Однако в условиях острой конкурентной борьбы кинопромышленность использовала такие методы, которые не только не помогали, но и мешали развитию искусства. В начале двадцатых годов параллельно с деятельностью режиссеров-реформаторов, происходил процесс коммерциализации кино в условиях массовой продукции, сопровождавшийся рядом отрицательных явлений (таких, как экранизация бульварных романов, культ кинозвезд и т. д.). Студии редко отваживались на творческие эксперименты и сознательно шли по пути вульгаризации тематики, актерской игры и режиссерских концепций.
Тем временем экономическое положение страны изменилось: японские товары начали встречать за границей тарифные барьеры, и для захвата рынков сбыта приходилось прибегать к демпингу.
Это привело к ухудшению и без того низкого уровня жизни трудящихся. В 1922 году страна Восходящего Солнца оказалась перед лицом кризиса.
==313
И именно тогда, в 1923 году, произошли грандиозное землетрясение, психологические и общественные последствия которого были громадны. В одном только Токио погибло более ста тысяч человек, и огромный город лежал в развалинах. Из нескольких сотен кинотеатров уцелел только один. Все павильоны были уничтожены. Центр кинематографической жизни на многие годы переместился в древнюю столицу Киото, где всегда концентрировалось производство костюмных фильмов дзидайгэки.
Творческое лицо японского кино претерпело значительные изменения. С одной стороны, возрождался исторический фильм, а с другой — появились произведения радикального направления, затрагивающие современные темы. В этих явлениях сказались настроения общества, которое пережило природную катастрофу, а затем и экономический кризис со всеми ело последствиями — волной забастовок, локаутов, демонстраций.
Буржуазия в это трудное для нее время проповедовала фаталистические и пессимистические идеи. Режиссеры часто прибегали к историческим аналогиям (гражданские войны, голод и нужда в минувшие века. периоды смут, одичания и жестокости). Именно здесь следует искать причины возрождения фильмов дзидайгэки, которые, однако, по своему характеру отличались от прежних. И хотя мы вновь видим на экране сражения и погони, поединки и приключения, изменились герои и мораль сценариев. От детски добродушных рассказов кацугэки, где мужественные рыцари боролись со злыми духами, чтобы завоевать руку сказочной царевны, не осталось ничего или почти ничего... В новых фильмах, называемых теперь кэнгэки (фильмы меча), героями были отчаявшиеся странствующие бродяги (ронины), ищущие мести, ненавидящие общество, которое их отвергло. Иновда вместо самураев на экране появлялись люди из общественных низов, для которых каждый благородный самурай — смертельный враг. Мстители редко добивались победы, противник слишком силен, и борьба заранее обречена на поражение.
Показ безнадежности бунта — вот что было характерно для новой серии дзидайгэки, господствовавшей на экранах до 1927 года.
Что касается современной тематики, то настроения пессимизма и безнадежности сменились смелыми призывами к изменению социального порядка. Историки японского кино называют фильмы этой серии (1926—1929) «коммунистическими». Как случилось, что в капиталистическом государстве демонстрировались фильмы, финансировавшиеся крупными студиями и пропагандировавшие революционные идеи? Объяснение этого, на первый взвляд парадоксального факта следует искать в финансовой политике предпринимателей. Так называемые коммунистические фильмы пользовались огромным успехом у публики, а для продюсеров важна была только прибыль и ничего больше. Во-вторых,
==314
о «революционности» немых японских фильмов можно говорить только в кавычках. Содержавшиеся в них призывы к борьбе с несправедливостью были, конечно, искренни, но вместе с тем глубоко идеалистичны. Это были, как правило, личные, а не классовые драмы. Сентиментальные перипетии подчас отодвигали на второй план проблему экономической эксплуатации. И только в тех случаях, когда сказывалось влияние зрелой марксистской литературы, фильмы приобретали большую остроту звучания.
Наступление левых фильмов продолжалось недолго. Насколько заботившиеся о своем кармане продюсеры были терпимы, настолько правительство микадо не желало мириться с критикой существующих порядков. В дело вмещалась цензура, которая безжалостно резала фильмы или просто запрещала произведения «подрывного характера». В результате студии почти полностью прекратили выпуск фильмов радикального направления. Вместо картин о пролетариате экран заполнили ленты из жизни люмпен-пролетариата. Лишь немногочисленные художники остались на прогрессивных позициях, с которых их смела уже в тридцатые годы волна японского империализма.
К реалистической школе относились, в частности, режиссеры Эйдо Танака, автор фильма «Четыре времени года в Токио» (1923), Кэнсаку Сусуки, создатель «Человеческой боли» (1923), и Кэндзи Мидзогути (1898— 1956).
Последний — выдающийся постановщик японского кино немого периода, художник очень плодовитый, но эклектичный. В 1923 году он создал серию полицейских фильмов, героем которых был японский двойник Арсена Люпена. Затем он экранизировал «Анну Кристи» 0'Нила и попробовал свои силы в экспрессионистском фильме. Одновременно Мидзогути проявлял интерес к социальной тематике, показав со всей остротой жизнь вородсково пролетариата в фильмах «Ночь» (1923) и «Но они уйдут» (1924). Наиболее зрелым как в идейном, так и в формальном отношении произведением Мидзовути была «Симфония города» (1929), в которой сопоставлялась жизнь двух семей: буржуазной и пролетарской. В тот период на японских мастеров начало оказывать влияние советское киноискусство. В 1930 году был создан Союз японского пролетарского киноискусства, так называемое Прокино, занимавшееся производством документальных короткометражек. Мидзогути не имел непосредственного контакта с левыми кинематографистами и в конце эпохи немого Kirao перешел на позиции буржуазного либерализма.
В 1929—1930 водах, накануне прихода звука, японское немое киноискусство достигло своей зрелости. Два основных вида фильмов — дзидайгэки п гендайгэки — выработали некоторые общие для этих двух направлений художественные принципы, отличающие их как от европейской, так и от американской школы. Испытывая влияние американских, французских, немецких и советских фильмов, японцы сумели,
==315
однако, сохранить особый национальный характер кинопроизводства. Попробуем выделить основные элементы, определившие своеобразие японского кино. Все они в той или иной степени возникли как результат тесных связей кино с другими областями искусства, причем решающую роль в создании японского стиля киноискусства сыграл театр.
Прежде всего следует сказать об актерах. Здесь мы сталкиваемся с сильнейшим влиянием традиционных театральных форм (в особенности театра кабуки). Японские актеры великолепно владели мимическим искусством, причем крайние состояния (интенсивность переживания или абсолютная неподвижность лица) значительно отличаются от того, к чему приучило нас европейское и американское искусство.
Французский критик Александр Арну, восторгаясь игрой главного актера фильма «Юиро» (1928, Тэйносуке Кинугаса), писал: «Японский актер в совершенстве овладел искусством выражения всей полноты чувств при сохранении абсолютного молчания, даже умышленного молчания, стараясь даже намеренно скрыть то, что нужно сказать». Японский актер Сессго Хайякава покорил американских зрителей таинственной силой неподвижной маски. Другие японские актеры довели это искусство до совершенства.
Второе важное обстоятельство — композиция фильма и его монтаж. И в этом случае влияние театра и литературы очень велико. В театре кабуки, как писал Эйзенштейн, обязателен монистический принцип комплексности используемых средств. Естественные звуки, движение, пространство, голос — одинаково важные элементы. Постановщик строит сценическое действие таким образом, чтобы «солировал» то один, то другой элемент. Необходимо, скажем, показать, что расстояние между зрителем и актером изменилось — режиссер меняет величину декорации, не уводя актера со сцены. На новой декорации нарисован тот же самый фон, только в другом масштабе. Таким образом, зритель узнавал, например, что герой отдаляется от замка, где он находился. А когда занавеска совсем закрывает рисованный задник, это означает, что герой ушел так далеко, что больше не видит замка. Точно так же, но уже при помощи монтажа изображались пространственные изменения.
К монтажному мышлению кинозритель был приучен не только театром, но и литературой. Миниатюрные поэмы хаику издавна пользовались группами образов, символизировавшими определенное настроение или конкретную ситуацию. Благодаря поэзии хаику публика понимала условность смены планов и особенно укрупнений, играющих роль эмоциональных акцентов. Включение в действие природы как лирического или драматического элемента так же было следствием проникновения в кино поэтического воображения.
Наконец, еще одним некинематографическим предком монтажа был особый вид «театра одного актера» — кодан, в котором, как в литературном кабаре, выступающий рассказывал различные истории.
Постепенно
==316
выработался особый тип рассказа, в котором изменения времени и пространства выражались соответствующим сочетанием слов или интонаций. Влияние стиля кодан сказалось в кино двояким образом: в надписях, заменяющих диалоги, и в специфической для японского кино фигуре комментатора, так называемого бенси, который, стоя перед зеркалом, объяснял зрителям содержание фильма. Бороться с комментаторами пытался в своих фильмах еще в 1918 году режиссер Каэрияма, но победы не добился. До конца немого периода и даже в начале звукового бенси составляли неотъемлемый элемент японских фильмов. Таким образом, немое зрелище дополнялось человеческим голосом. Причем комментатор играл свою роль, а его декламация имела такое же значение, как фотографии или монтаж. Таким образом, в отличие от Европы и Америки немое кино в Японии еще до технического оснащения звуком было говорящим.
Третья и последняя особенность — изобразительная культура японского кино, красота фотографий, уходящая корнями в традиции живописи и гравюры. Американский продюсер Шульберг во время своего визита в Токио заявил, что японское кино в области фотографии на голову превосходит фильмы голливудского производства.
Отделенная тысячами километров от европейских и американских киноцентров, Япония еще в немой период создавала произведения киноискусства на высоком художественном уровне.
Расцвет японского кино не был только результатом развития кинопромышленности. Конечно, без производственной базы и разветвленной сети кинотеатров создание фильмов вообще не было бы возможным. Но творческие достижения японских мастеров объясняются широкими связями кинематографа с другими искусствами и активным участием в создании фильмов интеллигенции и актеров. Мало найдется стран, где проблемы кино играли такую важную роль в культурной жизни нации. В 1929 году на территории Японии издавалось 120 кинематографических газет и журналов, а в Токио работало 23 киноклуба, показывавшие лучшие фильмы всех стран мира. Нынешние успехи японского кино нельзя считать загадочными или неожиданными.Премии европейских фестивалей пятидесятых годов японским мастерам — результат экспериментов немого кинематографа. Об этом историческом фундаменте новой школы японского кино забывать нельзя.
